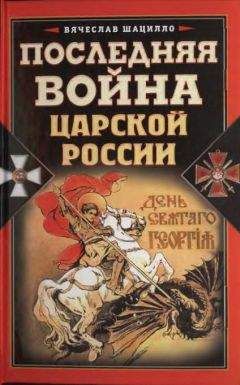Василий Белов - Год великого перелома
За все эти годы Бергавинов ни разу не показывался на людях без ордена. Орден был главным богатством, единственной ценностью, смыслом и символом всей тридцатилетней жизни.
«Молоды мы еще, так молоды», — думал он во сне. Отрывочно и бессвязно вспоминался ему пройденный путь. Вступил в партию ранней весной семнадцатого, а в двадцать лет был уже комиссаром Орловского полка. Комиссия Дзержинского посылала в самые жаркие места Украины. Партизанил в белом тылу. Однажды попался, был приговорен к расстрелу. Сумел убежать от пули. С какой скоростью летит пуля? Нет, это уже не молодость. Все его нынешние соратники не намного старше его. Возьми Митьку Конторина или Наташу Когинову. Правда, начальник ОГПУ Рудольф Аустрин старше, этот с девяносто первого. Да и Семен Иоффе на целых три года обскакал Бергавинова. Зато Шацкий Иосиф, тот на три года моложе. Шайкевичу уже сорок…
Шерстяной пиджак с орденом боевого Красного Знамени, привинченным к пиджачному отвороту, соскользнул со спинки стула. Это вернуло секретарю потерянное ощущение реальности. Он дернулся, будто от удара электрическим током. Выпрямился на стуле. «Да, так что там за матерьял приехал из Устюга? И почему, собственно, Шацкий Иосиф Исакович прет как ледокол против Шумилова Ивана Михайловича? Ведь Шумилов член ЦИК, уполномоченный РКИ давно покинул богоспасаемую Вологду. Кстати, в Вологде работает новая орггруппа ЦК… Кто такой Вилюмати, посланный дополнительно? Делают там что хотят — через голову крайкома и окружкома…»
Секретарь читал материалы, компрометирующие прошлое бывшего секретаря Вологодского губкома Ивана Шумилова. Обвинения были настолько серьезны, что вопрос опять же надо было выносить на бюро… А стоит ли говорить о Шумилове на бюро?
Бергавинов выудил тяжелую часовую кругляшку, на кожаном ремешке опускаемую из петлицы в нагрудный карман пиджака. Щелкнула крышка.
Была пятница, 31 января 1930 года, девять тридцать утра. До внеочередного закрытого заседания бюро Севкрайкома оставалось полчаса. Ночь была позади, и Бергавинов почувствовал, что бодрость снова возвращается к нему.
За окном в тусклом холоде падал редкий снег или иней. Архангельск давно притерпелся к зиме. Пока собирались члены бюро, секретарь-машинистка заварила свежего английского чаю, принесла добавочные стаканы. Она сообщила Сергею Адамовичу, что представители ОГПУ Аустрин, Осипчик и Шейрон уже прибыли и что Конторин и Шацкий тоже сидят в кабинете Иоффе, Цейтлин и Каценельсон подойдут позже, они приглашены на десять тридцать.
Для полного кворума не хватало Натальи Когиновой — завотделом наробраза да Сергея Ивановича Комиссарова — председателя СевкрайКК РКИ. Но вот пришли и они. Бергавинов по голосам узнавал членов бюро. Он встал им навстречу, раскрыл дверь. Все бодро и шумно пошли в кабинет, начали размещаться по обе стороны стола, накрытого голубой плотной материей.
Бергавинов, не здороваясь, тотчас открыл заседание. Он начал сообщением об успехах массовой коллективизации, с каждым часом развертывающейся во всех районах обширнейшего Северного края. Он сравнил кулаков, сопротивляющихся этому делу, с гоголевскими мертвыми душами. Начитанность секретаря не осталась незамеченной: язвительный ум бывшего моряка Семена Иоффе постоянно требовал себе тренировок. Иоффе обернулся к Шацкому и вполголоса, но весело и так, чтобы его услышали, спросил: «А кто Чичиков?» Бергавинов отчетливо разобрал реплику, но не стал пререкаться; работа, по его мнению, предстояла долгая и ответственная.
— Товарищи, — вновь заговорил секретарь, — планом ОГПУ нам предложено в самые ближайшие дни принять семьдесят пять тысяч кулацких семей. Эшелоны с юга уже движутся. Это общим числом около трехсот пятидесяти тысяч. Вполне возможно — прибудет до полумиллиона… Вот основной вопрос, который нам необходимо разобрать в срочном порядке! Предлагаю высказываться…
Первым слово для информации взял Шейрон, командированный из Москвы представитель ОГПУ. Он сообщил, что на первых порах прибудет восемьдесят тысяч, и зачитал перечень срочных мероприятий, необходимых на сегодняшнее число.
… После долгого, утомительно-однообразного и под конец сонного заседания бюро крайкома приняло разнарядку по округам.
Шейрон предложил отделять от семей трудоспособных мужчин и партиями от пятисот до тысячи человек отправлять в необжитые лесные и тундровые районы. Всех нетрудоспособных членов семей решили разместить в церквях, монастырях, бараках и, как выразился Иоффе, в «тому подобных местах шалашного типа».
* * *С юга ползли и ползли эшелоны с лишенцами. Печальные гудки паровозов пытались заглушить многотысячные рыдания и крики мольбы, проклятья отчаявшихся и молитвы, детский плач и всплески удивительных украинских мелодий. Безмолвная северная зима намного быстрее бежала навстречу этим бесконечным составам.
Один такой эшелон из числа направляемых в Архангельск, составленный из десятка вагонов, битком набитых украинскими лишенцами, вторые сутки продвигался на север. У пыхтящей «овечки» не хватало силенок тащить этот живой груз. Паровоз часто останавливался. То заправлялись водой, то в тендер загружали уголь, то вдруг прицепляли теперь уже одиннадцатый вагон с киргизами. Не доехав несколько километров до Брянска, поезд почему-то снова встал. Охрана, сколоченная на скорую руку из киевских комсомольцев, спала в своем, специально выделенном «телятнике». Дежурный, стуча винтовкой, перетаптывался в конце состава на открытой кондукторской площадке. Обдуваемый на ходу слева и справа, старый кожух не спасал от холода. На каждой остановке парень спрыгивал на землю и, недовольный железной тяжестью оружия, ругался с природой, бегал вдоль состава. В одну из таких пробежек он услышал крики и шум сразу в трех или четырех вагонах, начал стучаться в охранный вагон. Очнулся старший, разбудил первого попавшегося.
— А ну, глянь, шо там таке, — приказал он, сонно глядя на молодого, ничем не вооруженного хлопца, тоже сонного и замерзшего. — Бистро, бистро!
Хлопец, наконец, пробудился и убежал выполнять приказание. Стар ший открыл дверцу железной печки. Угли давно потухли. Холод гулял по вагону. Вагон был такой же, как и все спецоборудованные, с такими же поперечными нарами, но с печкой. Горел фонарь «летучая мышь»… Кутаясь в шарф, намотанный поверх поднятого воротника, старший подошел к неприкрытым дверям, выглянул в ночь. Посланный уже бежал обратно:
— Товарищу командир! Там, у третьему вагони, дид помер, сусидка каже тиф…
— Тише ты! Сусидка… Ну? Лезь суда, бистро…