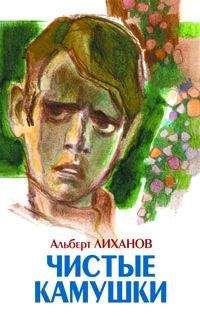Альберт Лиханов - Невинные тайны
«Зачем я полез сюда?» — прошептал себе Женя.
Его собственная жизнь совершенно не походила на жизнь этих ребят, и он прекрасно мог не знать об их существовании. Ведь есть же в науке непересекающиеся плоскости, вот и он мог бы себе жить, вовсе не пересекаясь с этим народом, пусть это сплошь дети геройских родителей.
Его родители, его па и ма вовсе не геройские люди, вполне обыкновенные, хотя, может, и влиятельные в своем роде, а главное — они живы, и это отделяет его от здешних ребят. Они живы, и слава Богу, что же теперь ему, винить себя за то, что они живы, винить себя подвигами павших родителей этик ребят? Какая-то выходила путаница. Неразбериха.
Ясно одно: играючи исполнить свою роль ему не удастся. Уже сейчас он чувствовал себя напряженным, расстроенным.
Как с этим сладить? Не замечать? Плюнуть? Махнуть рукой? Пропускать мимо глаз эту ребятню, девчонок и мальчишек? Но это же невозможно! Их так много в отряде, не говоря про дружину! Про весь лагерь!
Женя вздохнул. Да, вмазался, нечего сказать!
Возле спален слышались восклицания. Вожатые загоняли народ спать. Лучше не привлекать внимания к своей персоне.
Женя вздохнул, поднял три камушка на прощание и кинул их в море, стараясь, чтобы вышли блинчики.
Первые две попытки не удались. Только третий заплясал по поверхности. Значит, еще ничего, не так плохи дела.
* * *Павел погасил свет в спальне, вышел в прихожую, присел на скамеечку возле телефона.
Как все непохоже! Никакого возбуждения, даже вялость. Покорно разделись, легли — тихи, молчаливы. А какие трагедии! Какие судьбы! Как теперь он должен обращаться с ними, разговаривать? Хочешь не хочешь, а в подсознании всегда будет этот фон. Говоришь с одним, командуешь другому, просишь третьего, а услужливая память всякий раз тебе — нате! — их трагедии вытаскивает. Не дрогнет ли твой голос, товарищ вожатый, не захочется ли тебе вдруг изменить правилам и традициям, не ударишься ли ты в жалость — а ведь жалость, утверждал классик, унижает человека. Дверь в спальню он притворил неплотно, был возбужден — взрывом откровений, даже насторожен, поэтому хорошо расслышал слова, сказанные в полумраке спальни, и явственно различил голос Генки.
— Ну что, свистуны, — сказал Генка, — довольны?
Кто-то неуверенно хихикнул.
— И сами, небось, поверили в собственный свист?
— Какой свист? Какой свист? — Это был голос Пирогова.
Но Генка опять рассмеялся, только теперь его смех звучал напряженно.
— Пирогов! Ломоносов! — кого-то передразнил он. — Тоже мне! А правнуков Пушкина тут нет? — Он изменил голос, сказал пискляво: — «Я помню чудное мгновенье!»
Теперь в спальне рассмеялись свободно, будто даже облегченно, только Пирогов не сдавался, да слышался голос Ломоносова: — Зря дразнишься! Зря!
— Я не дразнюсь! — сказал Генка. — Я вас разоблачаю, врали несчастные!
— Вот тебе! — воскликнул Пирогов, и Павел услышал удар подушки.
— А-а! — воинственно воскликнул Генка. — Правда не нравится!
Две-три секунды, и в спальне открылась бойкая канонада. Народ сражался подушками, они хлопали друг о друга, издавая тугие звуки, перемежаемые ребячьим кряхтеньем и междометиями.
Павел возник в дверях, при свете слабой дежурной лампочки окинул взглядом подушечье побоище, кинулся к выключателям, врубил главный свет.
Битва прекратилась — на кроватях, в проходах между койками и в главном проходе замерли мальчишки в трусах — все с подушками. Мгновение они еще смотрели на Павла, возникшего будто строгое привидение, а в следующую секунду уже лежали под одеялами. Все, кроме двоих. Эти двое продолжали биться, словно рыцари на ристалище. Мутузили друг друга подушками посреди спальни, усталость уже давала себя знать, да и подушки все-таки что-то весили, поэтому почти после каждого удара бойцы валились набок или, по крайней мере, их шатало, удары слабели, но ярость — ярость не исчезала.
— Прекратите! — крикнул Павел. — Прекратите!
Пришлось подбежать к рыцарям, встать между ними, ухватиться за подушки — их оружие.
Противники остановились, тяжко дыша, в глазах их светилась неподдельная ярость. Подушка Генки была вымарана кровью, а на носу Пирогова алела царапина — то ли оцарапала обломанная пуговица от наволочки, то ли еще за что зацепился в пылу боя.
— Что происходит? — крикнул Павел. — А ну в постель!
Генка нехотя ушел к себе, Пирогова же пришлось повести в умывальник, прижечь царапину перекисью водорода.
Колька сопел, на попытки Павла заговорить с ним не отвечал. Он отступился — впрочем, толковать было не о чем. Все и так ясно: они врали. Врали!
Павел отправил Пирогова в постель, прошел по спальне, нарочно не сдерживая, не приглушая шаги, объявил, чтобы никто не прослушал:
— Спать! Я в прихожей!
И притворил дверь, на этот раз плотно.
Он не успел присесть, как ворвалась Аня.
— Павлик! Помоги! — шептала она, а ее глаза светились отчаянием.
Павел выскочил вслед за напарницей в коридор, кинулся рысьими шагами по полутьме и едва не пробежал мимо девчонки, стоявшей в трусиках и майке с видом независимым и спокойным.
— Вот, полюбуйтесь! — заговорила возбужденно Аня. — Так называемая Наташа Ростова!
— Ну и что, — ответила девчонка. — Я же вас выручала!
— В чем дело? — спросил Павел, разглядывая девочку.
Была эта девочка красива, но в красоте ее уже исчезла детскость. Павел испытал острое сожаление от пришедшей ему мысли: девочка похожа на цветок ранней вишни, такой цветок распускается раньше других, и в этом есть какой-то риск природы, неосторожность поспешности, ведь если весна дружная, равная, то все хорошо будет, первые плоды даст именно эта вишня, а если ударят заморозки — вот тут-то и скажется риск поспешания, замерзнут лепестки, и куст останется бесплодным.
Павел почувствовал какую-то опасность в этой девочке, в этой ее красоте. Губы полные, припухлые, налитые малиновой яркостью, брови вознесены высоко, и оттого кажется, что девочка смотрит надменно, презрительно, будто она хоть и ребенок, а гораздо старше многих взрослых, на щеках утонченный румянец — им покрыты только скулы, и эта розовость тянется к вискам, глаза карие, бархатные, очень глубокие, взгляд отводит, будто боится встретиться — но не за себя боится, а за того, на кого смотрит…
— Вот! — продолжала Аня голосом возбужденным, переполненным неясной страстью, и Павел вдруг подумал, что Аня ярится неспроста, что тут есть еще какая-то дополнительная причина, кроме вины девчонки. Может, эта ранняя зрелость бесит ее?
— Вот! — повторила Аня. — Я сразу поняла, что тут что-то не то! Нет у меня по списку Наташи Ростовой! Есть просто-напросто Зина Филюшкина! И когда я стала объяснять ей, мол, врать — стыдно, она мне сама же откровенно сказала, что и остальное все выдумка… Про погибшего геройски отца! Про мать, которая умерла!