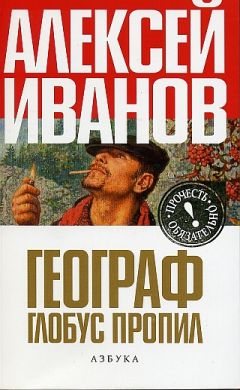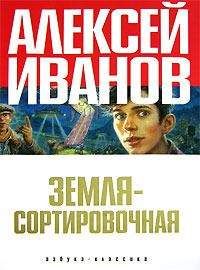Алексей Иванов - Географ глобус пропил
Он метнул в тополь маленький туристский топорик. Топорик отчетливо тюкнул, впиваясь в ствол. Будкин нырнул в машину, включил на полную мощь встроенный магнитофон, а затем развинченной, боксерской трусцой, не оглядываясь, побежал за топориком и в рощу.
— Хам, — заметила Надя, подняла сумку и понесла к мангалу.
— Папа, а песок не копается, — сказала Тата.
— Да бес с ним… Пойдем лучше на корабли смотреть, — предложил Служкин. — Давай садись мне на шею.
— Не урони ее! — издалека крикнула Надя.
С Татой на плечах Служкин вышел на тракторную колею и двинулся к кораблям.
— Папа, а куда Будкин пошел?
— На охоту за мамонтом. Он его на шашлык порубит, мама пожарит, и мы съедим. Мамонт — это слон такой дикий, волосатый.
— А ему больно будет?
— Нет, что ты, — успокоил дочку Служкин. — Он специальной породы — мясной. Когда его на шашлык рубят, он только смеется.
— А почему мы его не видели, когда на машине ехали?
— Ты не видела, а я вот видел. Они все мелкие, шашлычные-то мамонты, — размером с нашего Пуджика.
— А Пуджика можно на шашлык порубить?
— Конечно, — заверил Служкин. — Только для этого его надо долго откармливать отборными мышами, а он у нас ест одну лапшу и картошку.
Служкин дошел до ближайшего катера. Катер лежал на боку, уткнувшись скулой в шлаковый отвал — словно спал, положив под щеку вместо руки всю землю. Красная краска на днище облупилась, обнажив ржавчину, открытые иллюминаторы глядели поверх головы Служкина, мачты казались копьями, косо вонзенными в тело сраженного мамонта.
— А что корабли на земле делают? — спросила Тата.
— Спят. Они как медведи — на зиму выбираются на берег и засыпают. А весной проснутся и поплывут — в Африку, на реку Амазонку, на Южный полюс. А может, и в Океан Бурь.
— А мы на них будем плавать?
— Обязательно, — заверил Служкин.
С Татой на плечах он поднялся повыше по осыпи. За катером на мелководье лежала брошенная баржа, зачерпнувшая воду бортом, как ковшом. За баржей тянулись стапеля и груды металлолома. Темнели неподвижные краны. Заводские корпуса были по случаю воскресенья тихие и скучные. Вдали у пирса стояла обойма «ракет», издалека похожих на свирели. В черной, неподвижной воде затона среди желтых листьев отражалась круча берега с фигурной шкатулкой заводоуправления наверху.
Служкин посмотрел в другую сторону и увидел, что мангал уже дымится, а Будкин и Надя рядышком сидят на ящике. По жестикуляции Будкина было понятно, что он рассказывает Наде о чем-то веселом. По воде до Служкина донесся Надин смех. Непривычный для него смех — смех смущения и удовольствия.
Кира Валерьевна
Служкин сидел в учительской и заполнял журнал. Кроме него, в учительской еще четверо училок проверяли тетради. Точнее, проверяла только одна красивая Кира Валерьевна — водила ручкой по кривым строчкам, что-то черкала, брезгливо морщилась, а три другие училки — старая, пожилая и молоденькая — болтали.
— Я вчера, Любовь Петровна, в очереди простояла и не посмотрела шестьдесят вторую серию «Надеждою жив человек», — пожаловалась пожилая. — Что там было? Урсула узнала, что дочь беременна?
— Нет, еще не узнала, — рассказала старая. — Письмо-то Фернанда из шкатулки выкрала. Аркадио в больницу попал, и пока он был на операции, она его одежду обшарила и нашла ключ.
— Так ведь Хосе шкатулку забрал к себе…
— У него же эта… как ее?..
— Ребека, которая Амаранту отравила, — подсказала молодая.
— Вот… Ребека же у Хосе остановилась под чужим именем, а он ее так и не узнал после пластической операции.
— Почему? Он же подслушал ее разговор с Ремедиос…
— Он только про Аркадио успел услышать, а потом ему сеньор Монкада позвонил и отвлек его.
— Я бы на месте Аркадио этого сеньора на порог не пустила, — призналась пожилая.
— Это потому, что мы, русские, такие, — пояснила старенькая. — А они-то нас во сколько раз лучше живут? Там так не принято.
— Еще бы не лучше! — возмутилась молодая училка. — Фернанда — простая медсестра, а у нее квартира какая?
— Она же на содержании у этого американца, — осуждающе заметила старенькая.
— Я бы и сама пошла на такое содержание, — мечтательно заметила молодая. — Кормит его одними обещаниями, и больше ничего…
Служкин закрыл журнал, поставил в секцию и начал одеваться.
На улице уже темнело, накрапывал дождь, палая листва плыла по канаве, как порванное в клочки письмо, в котором лето объясняло, почему оно убежало к другому полушарию. Служкин закурил под крышей крылечка, глядя на светящуюся мозаику окон за серой акварелью сумерек.
Сзади хлопнула дверь, и на крыльцо вышла Кира Валерьевна. В одной руке у нее была сумка, раздутая от тетрадей, в другой руке — сложенный зонтик.
— Подержите, пожалуйста, — попросила она, подавая Служкину сумку.
— Тяжелая, — заметил Служкин. — Может, вам помочь донести?
— Я близко живу.
— Это как понять?
— Как хотите, — хмыкнула Кира Валерьевна, выпалив зонтом.
— Хочу вас проводить. — Служкин выбросил окурок, и тот зашипел от досады. — Давайте мне и зонтик тоже, а сами возьмите меня под руку.
Кира Валерьевна, поджав губки, отдала зонтик и легко взяла Служкина под локоть. Они сошли с крыльца.
— Отгадайте загадку, — предложил Служкин. — Моя четырехлетняя дочка сочинила: открывается-закрывается, шляпа ломается. Что это?
— Зонтик, — сухо сказала Кира Валерьевна. — Я бы не подумала, что у вас уже такая взрослая дочь…
— Так что ж, человек-то я уже пожилой…— закряхтел Служкин. — А у вас кто-нибудь есть? Сын, дочка, внук, внучка?..
— То есть вам интересно, замужем я или нет?
— А разве найдется какой-нибудь мужчина, чтобы ему это было не интересно, особенно если он красив и чертовски умен?
Кира Валерьевна снисходительно улыбнулась.
— Не замужем. — Она вызывающе посмотрела на Служкина.
— Я так и надеялся. А какой предмет вы ведете?
— Немецкий.
— Когда-то и я изучал в университете немецкий, — вспомнил Служкин. — Но сейчас в голове осталось только «руссиш швайн» и «хенде хох». Не подскажете, как с немецкого переводится сонет: «Айне кляйне поросенок вдоль по штрассе шуровал»?
Кира Валерьевна засмеялась:
— Вы что, литературу ведете?
— Географию, прости господи.
— Точно-точно, припоминаю. — Она скептически кивнула. — Что-то про вас говорили на педсовете… Стихи вы какие-то, кажется, ученикам читали, да?
— Жег глаголом, да назвали балаболом, — согласился Служкин.
— В самокритичности вам не откажешь.
— Посмеяться над собой — значит лишить этой возможности других, — назидательно изрек Служкин. — Это не я сказал, а другой великий поэт.