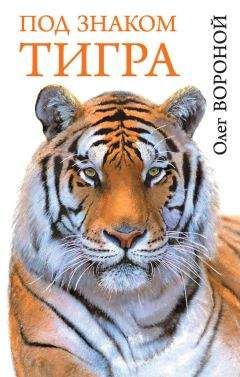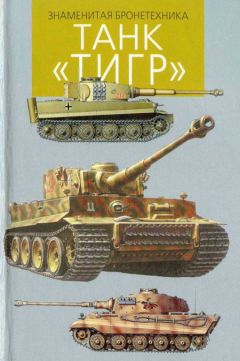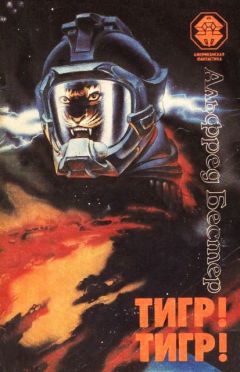Майкл Каннингем - Часы
И вот Кларисса, его ближайшая, старейшая подруга и первая читательница, Кларисса, навещающая его каждый день, хотя даже те, кто познакомился с ним сравнительно недавно, и то думают порой, что он уже умер, устраивает прием в его честь. Будут свечи, цветы. Разумеется, ей бы хотелось, чтобы Ричард пришел.
— Ведь на самом деле, — говорит Ричард, — я там не нужен. Достаточно, так сказать, идеи моего присутствия. Разве нет? И вообще, прием уже состоялся, со мной или без меня…
— Знаешь, это становится невыносимо. Ты просто испытываешь мое терпение.
— Только, пожалуйста, не сердись. О, миссис Д., честно говоря, мне просто ужасно стыдно там появляться. Ведь у меня ничего не вышло.
— Это не так.
— Так. Ты добра, очень добра, но боюсь, что я прав. Я переоценил свои силы. Думал, я значительнее, чем оказалось на деле. Можно открыть тебе одну позорную тайну? Я никому еще этого не говорил.
— Ну конечно.
— Мне казалось, я гений. То есть я буквально так о себе думал.
— Ну…
— О, гордыня, гордыня… Я все неправильно себе представлял. И проиграл. То, чего я хотел, оказалось неподъемным. Меня просто не хватило. Понимаешь, есть погода, вода, земля, звери, дома, прошлое и будущее, есть космос, есть история. Есть эта нитка или не знаю что, застрявшая у меня в зубах, есть старуха из дома напротив — ты, кстати, заметила, что она поменяла местами осла и белку? И, конечно, есть время. И место. И ты, миссис Д. Я хотел хотя бы немного рассказать о тебе. Я так этого хотел.
— Ричард, ты написал целую книгу.
— Да, но не сказал в ней и сотой доли того, о чем собирался сказать. А потом я просто зациклился на этой ударной концовке. Только не думай, что я жалуюсь. Нет. Нам всем хотелось слишком многого, верно?
— Да. Наверное.
— Ты поцеловала меня у пруда.
— Десять тысяч лет назад.
— Это происходит и сейчас.
— В некотором смысле.
— В реальности. Это происходит в том настоящем. И это происходит в этом настоящем.
— Ты устал. Тебе нужно отдохнуть. Я позвоню Бингу насчет лекарств, ладно?
— Нет, я не могу. Я не могу отдыхать. Подойди сюда. Ближе, если можешь. Пожалуйста.
— Я подошла.
— Еще ближе. Возьми мою руку.
Кларисса берет руку Ричарда, на ощупь напоминающую — к этому невозможно привыкнуть — связку ломких прутьев.
— Стало быть, это мы, — говорит он. — Тебе не кажется?
— Не понимаю.
— Мы, которым уже за пятьдесят, и мы, юные любовники, на берегу пруда. Мы и то и это, и то и это одновременно. Удивительно, да?
— Да.
— Честно говоря, я ни о чем не жалею, кроме одного. Мне хотелось написать о тебе, о нас. Понимаешь? Мне хотелось написать обо всем: о жизни, которую мы живем, и о жизни, которую мы могли бы прожить. Мне хотелось написать о том, как мы умрем, ведь это может произойти так по-разному.
— Тебе не о чем жалеть, Ричард, — говорит Кларисса. — Ты и так успел очень много.
— Как мило, что ты это мне говоришь.
— Сейчас тебе нужно поспать.
— Думаешь?
— Да.
— Ну что ж.
— Я приду и помогу тебе собраться, — говорит Кларисса. — Полчетвертого. Хорошо?
— Замечательно. Я всегда рад тебя видеть, миссис Дэллоуэй, ты же знаешь.
— Все, я пошла. А то цветы совсем завянут.
— Да, да. Конечно.
Она дотрагивается кончиками пальцев до его острого плеча. Неужели она испытывает сожаление? Неужели даже сейчас она способна поверить, что они с Ричардом могли бы быть мужем и женой, жить душа в душу, с любовниками и любовницами на стороне. Ведь всегда можно как-нибудь выйти из положения.
Ричард был когда-то ярким и ненасытным, рослым и бледным как молоко. Когда-то он расхаживал по Нью-Йорку в старой военной шинели, говорил страстно и взволнованно, небрежно перетягивал свои темные лохмы голубой ленточкой, которую где-то нашел.
— Я сделала крабовый салат, — говорит Кларисса. — Конечно, это сомнительная приманка, я понимаю.
— Ого! Я обожаю крабовый салат, ты же знаешь. Замечательно, просто замечательно. Кларисса!
— Что?
Ричард поднимает свое большое разрушенное болезнью лицо. Кларисса отворачивается и получает поцелуй в щеку. Не стоит целоваться с ним в губы — обычная простуда могла бы обернуться для него настоящей катастрофой. Кларисса получает поцелуй в щеку и сжимает костлявое плечо Ричарда.
— До полчетвертого, — говорит она.
— Чудесно, — отзывается Ричард. — Чудесно.
Миссис Вульф
Она смотрит на настольные часы. Прошло почти два часа. Усталости она не чувствует, хотя прекрасно знает, что написанное сегодня завтра может показаться ей пустым и надуманным. Книга, которая снится автору, всегда лучше той, которую он способен перенести на бумагу. Она делает глоток холодного кофе и позволяет себе перечитать то, что получилось.
Вроде бы неплохо, а отдельные куски просто хороши. Она всерьез надеется на эту книгу, это должен быть ее лучший роман, роман, в котором ей, наконец, удастся осуществить свои давнишние замыслы. Но может ли один-единственный день из жизни обыкновенной женщины стать основой целого романа? Достаточно ли этого? Вирджиния постукивает по губам большим пальцем. Кларисса Дэллоуэй умрет, в этом она уверена, хотя пока еще невозможно сказать, как и даже почему. Наверное, думает Вирджиния, Кларисса покончит с собой. Да, видимо так.
Вирджиния откладывает ручку. Будь ее воля, она работала бы весь день, заполнила не три, а тридцать страниц, но после первых нескольких часов в ней что-то спотыкается, и она не решается выходить за положенные пределы из страха испортить все предприятие. Слишком легко соскользнуть в невнятицу, из которой можно уже никогда не выбраться. С другой стороны, ей всегда досадно тратить свои лучшие часы на что-нибудь, кроме писания. Она работает на фоне постоянной угрозы очередного приступа. Сперва начинаются головные боли, не похожие на то, что обычно именуется этими словами (впрочем, придумывать какие-то новые обозначения всегда казалось ей чересчур мелодраматичным). Они просачиваются в нее. Не просто поражают, а внедряются внутрь, как вирусы в тела своих жертв. В глазах начинают танцевать огненные пряди боли, слепящие обрывки и осколки такой невероятной интенсивности, что ей приходится напоминать себе, что, кроме нее, их никто не видит. Боль оккупирует ее, вытесняя то, что еще недавно было Вирджинией, с такой мощью и быстротой, ее рваные, зазубренные края так безусловны, что Вирджиния давно уже воспринимает ее как самостоятельное живое существо. Она неоднократно видела ее, гуляя с Леонардом по площади: над брусчаткой плыла искрящаяся серебристо-белая масса, снабженная тут и там острыми зубцами, студенистая как медуза. «Что-то случилось?» — спрашивал Леонард. «Это моя мигрень, — отвечала она. — Не обращай внимания».