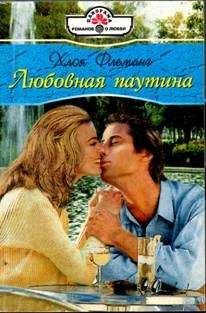Анатолий Иванов - Повитель
— Это уж так получилось, что в девятнадцатом… А я говорю — хотел раньше. Любил-то Анфису, жил ведь тогда еще с ней, а жениться хотел на мне… А что от богатства нашего дым один остался, это тебя и точит всю жизнь, как червяк дерево.
— Замолчи… об чем не зняешь! — тихо, с тяжелым стоном попросил он.
— Знаю! — упрямо продолжала Анна. — И отца моего ты жалеешь, которого Иван застрелил. А брата своего за это и ненавидишь… за то, что опомнился он, Иван, тогда, перешел к партизанам, понял, где правда… Ты мстишь ему за это всю жизнь, потому что больше-то никому не в силах мстить… али боишься другим-то! Вот… Этаким никто тебя не знает, а я знаю… Теперь… теперь… тебя и он, Иван, раскусил… Теперь он тебе и вовсе смертельный враг».
В памяти Федора неотвязно звучит все до последнего слова, сказанное Анной, а перед мысленным взором проходят взаимоотношения с прихвостнем богатея Кафтанова Демьяном Инютиным, вспоминается беседа с Поликарпом Кружилиным в разгар гражданской войны. Один временной план сменяется другим, картины собственной жизни разрезаются, как ножницами, беспощадно точными фразами Анны (в печатном тексте выделяемыми и графически). От этих фраз Федор не может отделаться даже тогда, когда выступает на собрании и когда, сказавшись больным, покидает собрание. В уши ему «барабанят» слова Анны: «А что от богатства нашего дым один остался, это тебя и точит всю жизнь». Они страшны для него, ибо выносят на свет «тайное тайных» его всегда остававшейся собственнической, индивидуалистической души. Они доводят его до галлюцинаций. В виски с обеих сторон долбит и долбит безжалостное: «За-чем тогда живешь? За-чем тог-да жи-вешь?»
Оказавшись на фронте и в первом же бою, под Пятигорском, устрашившись немецких автоматов, Федор Савельев истошно закричал. «Я хочу вам служить! Честно… честно служить!» И стал им служить, хотя в душе сознавал, что «немцам русских не одолеть». Служил потому, что «не любил он Советскую власть и всех, кто за нее боролся, кто принял эту власть, не любил».
До значения грандиозного символа поднимает Анатолий Иванов сцену надвигающегося на Федора справедливого возмездия. Убегая от преследующего по пятам отряда Алейникова, Федор кричит: «Живьем не возьмете, сволочи!» — и вдруг слышит спокойный голос брата Ивана: «Почему же, Федор? Возьмем!» Федор строчит по нему из автомата, а Иван, невредимый, осыпаемый пулями, но невредимый, надвигается на него. Иван говорит, что он, Федор, не имеет права и никогда не имел права ходить по земле, что он «ее обгадил» И, как бы в подтверждение слов Ивана, тот начинает поливать грязью собственного сына, жену Анну, плюется такими словами, каких, наверное, не произнес бы сам Кафтанов. «В мозгу Ивана что-то немыслимой болью вспухло и разорвалось. Закрыв глаза, он нажал на спусковой крючок, автомат задергался, сильно и больно заколотил прикладом в живот. Он все прижимал спусковой крючок, пока диск не кончился и автомат не перестал реветь».
Необычна эта сцена у такого бескомпромиссного и жесткого реалиста, каким является Анатолий Иванов. Но в данном случае он сознательно идет на нарушение правдоподобия, стремясь придать символический смысл заслуженному возмездию: это сама история уничтожает все чуждое новой жизни, затаившееся в ее щелях, уничтожает бесчеловечный мир собственничества, который так ненавидит писатель и в конечном поражении которого на всей Земле не сомневается.
* * *Один из критиков, анализируя роман «Вечный зов», писал: «Историзм определяет главные достоинства этого романа, в котором панорама народной жизни дана от начала века до шестидесятых годов… Показывая, как глубоко затронули социальные перемены века корни народа, Анатолий Иванов продолжает шолоховские традиции»[13].
Эта мысль справедлива по отношению и ко всему творчеству писателя. Исследуя главные стороны социальной и духовной жизни общества в самый революционный период, показывая героическую борьбу народа за идеалы коммунизма, утверждая «мир социальной новизны», Анатолий Иванов своими произведениями существенно пополняет сокровищницу великой советской литературы
Александр ОВЧАРЕНКО, доктор филологических наук
Часть первая
Глава первая
Маленькая речка, густо заросшая по берегам тальником и низким осинником, в самом центре деревушки круто заворачивает влево, образуя почти прямой угол. Оттого, видимо, и деревня называется Локти.
С трех сторон опоясывает ее неширокой лентой сосновый бор, а с четвертой, с северной, раскинулось большое озеро Алакуль.
За бором, прижавшим деревушку к самой воде, поблескивают на солнце плоскими лысинами редкие холмы. Выбегая из деревни, пробиваясь сквозь зеленый заслон, вьется между ними, свинцово отсвечивает пылью единственная дорога.
Весной отлогие склоны холмов распахивают, и тогда, если взойти на самый высокий из них, кажется: на старую, застиранную прошлогодними осенними дождями, вылинявшую под солнцем, до блеска заглаженную ветрами землю наложены новые черные заплаты.
А дальше за холмами начинаются непроходимые леса и болота. Они тянутся на много километров. Среди лесов попадаются иногда небольшие, домов в пятьдесят-семьдесят, деревеньки, жители которых задыхаются летом от болотных испарений. Эти испарения, если дует южный ветер, доносятся и до Локтей. Тогда в домах плотно закрывают окна и говорят:
— Задышало Гнилое болото. А ведь и там люди живут… Господи…
Локти — селение тоже небольшое, всего в несколько безымянных улиц. Но крайние дома так далеко разбрелись по берегу речки, что от одного конца до другого будет километра четыре. К этим домам протоптаны тропинки. По бокам тропинок растет высокий бурьян. К середине лета его выкашивают, — потому что после утренних рос или дождя пробраться к домам, не вымокнув по пояс, нельзя.
Главная улица деревни, широкая и пыльная, засажена тополями. Одним концом она упирается прямо в озеро, другим — в стену соснового бора.
В этих лесных и болотистых краях днем с огнем не сыщешь камня. Зато отлогий берег озера, там, где впадает в Алакуль речушка, щедро завален мелким галечником. А справа и слева от речушки, в полкилометре от устья, беспорядочно громоздятся угрюмые, голые скалы. Живший в Локтях ссыльный студент Федор Семенов называл почему-то галечник на берегу и эти скалы «шуткой природы». Часто он, пошевеливая густыми, черными как смоль бровями, подолгу любовался, как искрятся гранитные глыбы под лучами солнца. Жителям это казалось странным, а сам ссыльный чудаковатым человеком. «Скалы и скалы — эка невидаль». Они привыкли к скалам, как привыкли к озеру, к лесу, к болотам, к повседневной своей нелегкой жизни.