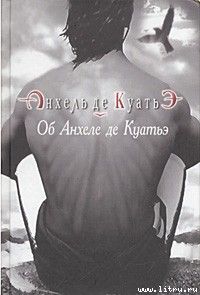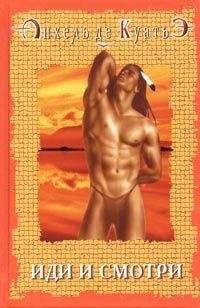Макс Гурин - Повесть о Микки-Маусе
Ах, как многообразна жизнь! Как в ней много самых разнообразных моральных уродов, каждый из которых счастливей меня! Они все живут себе и считают, что то, что они видят перед собой — это так и есть; это и есть, мол, то, что они и видят. И только я один знаю, что всё это совершенно не так! Всё это — совершенно не то, чем кажется, и всё обстоит совершенно не так, как об этом принято думать, а тем более говорить вслух.
Моя мать мне вовсе не мать, а моя жена мне вовсе не жена, и уж конечно, мой отец мне никакой не отец. Только мои дети — мои. Но и это лишь до поры до времени.
Я стою тут, блядь, на зелёном ковролине с разорванным нахуй сердцем, а им всем нет до этого никакого дела! У них есть заботы поважнее: они пришли меня убивать! Вот их цель! О, русский бунт, сука-рот, бессмысленный и беспощадный во всякое время, как будто сам демон зажигает лампы, чтобы представить всё не в настоящем виде. О, бедный Гоголь я! Сейчас-сейчас, осталось им только пару раз поднатужиться, и они высадят последнюю дверь к Центру Моей Головы.
Им не нравится Единое Поле. Им не нравлюсь я! Хотя они все просто врут. Им не нравится, что я и есть Единое Поле, потому что они сами хотели б им быть! Но быть Единым Полем — это значит быть на моём месте. А на моём месте не будет никого и никогда, кроме Меня!
Но они не понимают. 44-й сбил их всех с толку. Там, в толпе, один паренёк понимал вроде, но они его затоптали, заглушили; им показалось, что он говорит хуйню, несёт ахинею, бредит и прочее. Они лезут, лезут ко мне, на рожон. Они не понимают. Они не понимают, что если не будет Меня, не станет Единого Поля, а когда нет Единого Поля — нет ничего…
Они не понимают, нет. Им бы только высадить дверь, показать свою быдляцкую удаль, настоять на своём. Ну так и пусть сдохнут!
— Да сдохните же вы все наконец, мрази! Шваль человеческая! — закричал я, распахивая дверь настежь.
Но тут произошло неожиданное. Я до сих пор не понимаю, когда вспоминаю тот день на том свете, как это могло так случиться. Как это так вдруг вышло, что как раз в тот момент, когда я уже был в двух шагах от победы, когда я, сам не смея поверить своему счастью, чувствовал, что вот наконец вернул себя самого себя (хотя бы и в последние минуты второй жизни), как, как получилось так, что именно в этот момент я вдруг снова стал Микки-Маусом… И, что самое поразительное, на сей раз Микки-Маусом видимым. Видимым для всех и вполне осязаемым!
Да, вроде бы дверь моим убийцам открывал ещё я — по крайней мере, я точно взялся за ручку — но… когда она открылась, Микки-Маус, ещё не успевший понять, что он — Микки-Маус, увидел там вовсе не революционных пилотов, а… полицейских…
Они вообще ничего не стали ему говорить. Уж слишком было всё очевидно: мой труп у него за спиной, а в его руках ещё дымящийся револьвер…
От неожиданности он выронил его на зелёный ковролин, и его освободившиеся руки полицейские заботливо упаковали в наручники.
Микки-Маус всё ждал, что они вот-вот скажут: «Не волнуйтесь, следствие разберётся», но на сей раз они вообще промолчали…
Кто-то из нас лежал на уже подгнивающих листьях глазами к расколотому надвое небу, с которого скатывались, как ягоды рябины по скату крыши дачного домика, самые разные звёзды. Вразнобой. Неважно, первой величины, второй или третьей — все без разбору; все они скатывались в перламутровый дождь, и весь их свет растворялся в струях его без остатка, лишь напоследок расходясь по дождю мерцающими последними волнами своего цветового спектра, подобно кругам на воде, расходящимся от брошенных в омут камней, частей какого-нибудь прежнего Эвереста, к примеру; той горы, которую звали Эверестом когда-то в прежней Вселенной.
Тот, кто лежал на подгнивающих листьях, в общем-то, понимал, что он только что расстрелян по приговору какого-то там Трибунала, и, в принципе, у него нет глаз, которыми он мог бы видеть то, что он над собою видел; нет ни глаз, ни вообще как такового лица, потому как выстрел в затылок разрывною пулей в упор вообще мало что оставляет от как таковой… головы.
Он, этот самый кто-то из нас, понимал и то, что всё, в общем-то, правильно; иначе и быть не могло. Состав Преступления был налицо. Слишком очевидно, слишком преступно. Убил Меня — отвечай. Как по-другому?
Он только не понимал, почему убил именно он. Это как-то ускользнуло от его внимания. Он помнил последние дни только с того момента, когда неожиданно обнаружил себя убийцей, стоящим над трупом кого-то из нас с дымящимся револьвером в руках. Теперь он тоже труп. Тоже кого-то из нас…
Как глупо это всё получилось. Кто-то из нас убил кого-то из нас, за что кто-то из нас убил уже, в свою очередь, его, и зачем это всё вообще было, если ничего абсолютно не изменилось. Ни для кого из нас.
Труп кого-то из нас нехотя наблюдал за редким в наших широтах явлением под названием светопредставление; думал обо всём этом; о том, что нет ни малейшей разницы, кто кого убил, зачем, почему, или никто не убивал никого и, напротив, все живы-здоровы и будут жить вечно, и не имел никакой спасительной возможности даже хотя бы на миг усомниться в том, что всё теперь так и будет всегда. И даже более того: всё всегда именно так и было. И не было никогда ничего, кроме перламутрового дождя и расколотого надвое неба… Неба над трупом казнённого за убийство… себя самого…
— Ну вот… Понимаешь?.. — сказал я и сделал ещё один глоток кофе, — Понимаешь, как на самом деле всё сложно и, в сущности, интересно. А вокруг… вокруг…
— Ну да… — подхватил Микки-Маус, — А вокруг одни ублюдки со своими тупыми примитивными проблемами, заботами о домашнем хозяйстве и с прочими своими быдляцкими добродетелями!..
— Ну да. — согласился я. Оба мы замолчали, потому что оба полезли за сигаретами.
— То есть ты считаешь, — прервал наконец наше временное молчание Микки-Маус, — что такая картина мира, где ничто никогда никакого не имеет значения, в общем и целом, верна? — и он хитро прищурился, выпустив струйку сигаретного дыма.
— Ну да… — подтвердил я.
— Гм, но тогда получается, что можно убивать и насиловать!
— А так разве нельзя? Разве именно так и не поступают все и всегда, лишь иногда, под настроение, ковыряя при этом пальцем в носу, рассуждая о каких-то гуманистических ценностях!?..
— Видишь ли, — начал Микки-Маус, — так-то конечно, все действительно всех убивают, насилуют и всячески, гм-гм, фрустрируют, но пока картина мира хотя бы внешне и официально иная, чем та, которая бы устроила тебя больше, все хоть понимают, что идут на преступления. И у них есть, таким образом, право выбора. А в мире, где ничто никогда не имеет никакого значения, такой категории как Преступление не существует вообще.
— Ну и что тут плохого? — воскликнул я довольно эмоционально, поскольку и впрямь, сколь ни старался, никогда не мог этого понять, — Что плохого в том, когда ни в чём нет ничего плохого?
Микки-Маус снова усмехнулся и сказал, предварительно щёлкнув в воздухе хвостом:
— Ну хорошо… Смотри…
Тут входная дверь кафе распахнулась, и с заснеженной улицы к нам явилась Ольга Велимировна в какой-то невероятно пушистой шубе. Она встала прямо под центральным светильником, и её шуба вдруг стала так затейливо переливаться всеми цветами радуги, что вся Ольга Велимировна сделалась похожа на новогоднюю ёлку. Тусклый свет нашего кофейного погребка перебегал от одной тающей на кончиках волосков шубы снежинки к другой, и всё как будто озарил божественный свет.
— Вот это да! — прошептал я в восхищении.
— Смотри не кончи раньше времени! — шепнул мне на ухо Микки-Маус.
Первым делом Ольга Велимировна обаятельно, но громко захохотала, затем победно обвела взглядом всех присутствующих и принялась раздеваться.
Вот упала к её ногам шуба, вот юбка медленно сползла по бёдрам, вот полетели в разные стороны сапожки…
Через три минуты Ольга Велимировна стояла посреди кафе абсолютно нагая, игриво прикрывая лобок элегантной маленькой красной сумочкой. Послав нам с Микки воздушный поцелуй, она неспешно продефилировала к бильярдному столу, извлекла из сумочки прозрачный и, не скрою, довольно толстый фаллоимитатор, легла на тёмно-зелёное сукно и послала нам воздушный поцелуй снова.
Я спрашивал её потом, спустя многие годы, кому конкретно всё же был послан тот поцелуй, мне или Микки-Маусу, но она всегда только смеялась в ответ.
— Сейчас ты поймёшь, что плохого в том, когда ни в чём нет ничего плохого… — не поворачивая в мою сторону головы, прошептал Микки-Маус.
— С удовольствием! — попытался пошутить я.
— Угу. Только смотри не кончи раньше времени… — снова повторил он.
То, что стало происходить вслед за этим, захватило меня настолько, что временно я потерял всякий интерес и к любой из существующих в мире наук, и ко всем видам искусства, и к любой религиозной проблематике. Я просто смотрел во все глаза на это Великое Действо, на эту вневременную и Вечную бесконечно прекрасную Мистерию, разыгрываемую сейчас на бильярдном столе нашего кофейного погребка. Сам я как будто бы полностью растворился в пространстве, превратившись в одно лишь собственное зрение.