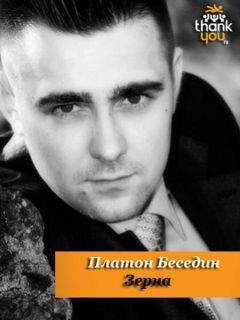Платон Беседин - Чётки
Его рёв невыносим. Кажется, внутри меня взрываются бомбы. Я швыряю ребёнка в кроватку. Из-за него меня выгнали из дома. Из-за него я стала блядовать. Из-за него мне так херово сейчас.
На полу — подушка. Хватаю её, прижимаю к себе. Ублюдок ревёт. Хочет жрать. Сейчас, сейчас всё кончится.
Подушка на его лице. Рев пробивается даже через неё. Я нажимаю сильнее. Ещё сильнее. Слышу, как наступает тишина.
Господи, как хорошо!
* * *
Осматриваю свой живот — всё больше. Надо пить меньше пива и есть капусту. Говорят, это помогает. Сегодня начинаю бегать.
Надеваю кроссовки и выхожу во двор. Встречаю соседку с верхнего этажа. Она со своим сынишкой. Славный белобрысый карапуз. Люблю дарить ему сладости.
У меня мог бы быть такой же. Даже лучше.
Бегу вдоль дороги. Вспоминается карапуз соседки. Потом — мой сын. Его мама.
Мог ли я быть с ней? Мы были так молоды. Так бедны. Страх — моя первая эмоция от её беременности. Страх, что всё не будет как прежде. Я сказал, что это не мой ребёнок. И мы расстались.
Мы виделись с ней ещё раз. Сын родился два восемьсот.
Пробегаю дачный сектор. Дома похожи на катакомбы. Слышится собачий лай. Я бегу. Он становится громче. Совсем рядом. Неужели за мной увязались собачья свора?
Я останавливаюсь. В детстве отец говорил мне, что собаку нужно встречать боком. Вдруг из темноты выскакивает рыжий пёс и прыгает на меня. Я теряюсь от неожиданности и застываю на месте. Псина кусает меня за локоть. Я сбрасываю и отталкиваю её.
Но появляется другая, крупнее и злее. Следом ещё одна. Сколько же их? Что, чёрт возьми, происходит?
Чувствую собачий смрад. Кажется, ещё немного и по мне поползут блохи. Зубы впиваются в бедро и руку. Гигантская, чёрная собака прыгает на грудь. Сбивает с ног.
Падаю на асфальт. Пытаюсь отбиться. Перед глазами собачьи пасти. Моё тело раздирают на части.
И вдруг я вижу человеческое лицо. Глаза, уши, рот — маленький мальчик, а под ним личина зверя. Он один из своры. Другой и в то же время свой. Так же клацает челюстями. Так же рычит. Так же беспощаден.
Зубы возле моего горла. Глаза мальчика над моим лицом. И я узнаю его.
Это мой оставленный сын. Господи, но как!? Его же взяли в детский дом. Откуда он здесь?
— Прости! — кричу я.
В ответ — лишь лязг зубов и смрад. Он никогда не узнает меня. Не узнает того, что у него был отец. Как и бездомных собак, его предали люди.
Чувствую, как по шее течёт тёплая кровь, а по лицу — едкие слёзы.
* * *
Мне семь лет. И сегодня я уйду играть в футбол.
Папа рассказывал мне, что все дети попадают в рай и там становятся футболистами. Папа был хороший. Он кормил меня сладкой ватой и учил играть в футбол. А потом вдруг ушёл играть сам.
Мама сказала, что он умер. Но я ей не верю. Это мама умерла, потому что стала другой.
Потом у меня было много пап. Все они громко кричали и дурно пахли. Однажды один из них залил мне в рот полбутылки горькой настойки. Мне стало не по себе. Я падал и рыгал, а все хохотали и говорили маме: «У тебя растёт алкоголик».
Тогда жизнь была малиной. Кормили селёдкой и огурцами. На день рождения подарили три конфеты. И главное — можно было играть в футбол.
Затем меня стали бить. Верёвкой, ремнём, шнуром. Не очень больно. Больно было, когда дядя Вася ударил меня по лицу утюгом. Даже мама занервничала. Кричала: «Ты ж его убьёшь! Хотя лучше убей! Только жрать просит!»
Однажды к нам приехала бабушка. Она долго ругалась с мамой в кухне, но вышла довольная и с деньгами. Мама всё смотрела на меня и приговаривала: «Поедешь, Сеня, в деревню…»
В деревне я познакомился с дедушкой. Он всё время лежал на кушетке. Говорил он немного, всего несколько слов. Бабушка сказала, что это он матерится, а не встаёт, потому что парализованный. Я спросил, почему деда парализовало. Бабушка всхлипнула и объяснила, что жизнь такая.
В деревне в футбол играть было негде и не с кем. Поэтому я гонял по двору пустую консервную банку. Меня били за это. Потому что не работал по дому. Хотя я всё делал: дрова рубил, воду из колодца носил, за свиньёй убирал.
Сначала я спал на полу в доме, а потом меня в хлев выгнали, к свинье. Там даже лучше было. Теплее. И еды хватало. Я за свиньёй доедал. Один раз бабушка это увидела и больно меня отколошматила. Кричала: «Свинью, паразит, объедаешь».
Свинья много ела. До упору. Бывало, наесться и давай рыгать.
Как-то я спал, а бабушка меня бить стала, чтобы у соседей жрать не просил.
И ничего я не просил. Просто когда по деревне бегал, банку гонял, люди на меня смотрели и охали. Покушать давали, а я соглашался.
Бабушка узнала и посадила меня на цепь. Отвязывали, когда работать надо было. Я быстро всё делал и убегал — банку гонять.
Хочу быть великим футболистом.
Однажды приехала мама. Постарела.
Идёт ко мне и курит. Я, как её увидел, сразу рваться начал. Хочу к ней на шею кинуться, обнять, но цепь мешает. Чуть не задохнулся.
Мама с бабушкой ко мне подошли.
— Вишь, какой! Опять жрать просит! — говорит бабушка.
— Прожорливый! — отвечает мама.
Развернулись и ушли. Если бы не цепь, я бы бросился к ним на шею и крепко бы обнял. Не из-за еды — просто я их люблю. Только цепь мешает.
Это три дня назад было. С тех пор меня не отвязывают. Работать не заставляют. Кушать не дают.
Уйду сегодня играть в футбол. Навсегда, к папе. Там я стану великим футболистом. Наемся до пуза, чтобы, как нашей свинье, аж тошно было!
Папа так обещал, а он хороший. И мама хорошая. И бабушка. Просто жизнь такая.
Бесноватый
Апостол Пётр, распределяющий путёвки в рай или ад, прямо передо мной. У него большие ресницы, ярко-красные губы и чуть обвисшая грудь. На нём медицинский халат, и, судя по бейджику, его настоящее имя — Оксана Петровна.
Нас двое. Я в мягком кожаном кресле, она за облезшим столом фальшивого ореха. Её короткие полные пальцы с французским маникюром перелистывают страницы тетради, периодически отвлекаясь на порцию слюны. Наконец, они замирают. Оксана Петровна останавливает взгляд на странице. Я внимательно смотрю на её равнодушное лицо, мёртвое от избытка пудры. Ярко-красные губы приходят в движение, обнажая искусственные зубы цвета сгущённого молока. Говори, Оксана Петровна, не молчи…
Напрягаю ноздри, широко расширяя их, так широко, что становятся видны чёрные волоски и засохшие сопли. Хорошо, что эта девушка в жёлтом платье слишком заплакана и не может лицезреть два кратера моего носа.
Без очереди здесь не обходится. Правда, всё спокойно: никто не спешит и не лезет вперёд — покорно ждёт, изучая плакаты о профилактике сифилиса и ВИЧ. На одном из них девушка, похотливо улыбаясь, спрашивает: «Зайдёшь на кофе?». Внизу приписка — «секс = презерватив». Все рекламируют презервативы, но никто так и не заикнулся о любви.
— Здравствуйте!
Обнажаю вену. Меня стягивают жгутом. Работаю кулаком. Моя кровь, тёмная, как хороший гранатовый сок, переливается в стеклянную колбу. Жгут ослабляют. Колбу надписывают. Ранку зажимают ваткой.
— До свидания!
Мне нужен тот, кто будет любить меня, тот, кого буду любить я, но я всегда одинок. Возможно, из-за своего физического уродства — заячьей губы и молочной, как у альбиноса, кожи, а, возможно, из-за того, что не способен полюбить самого себя. До двадцати лет я ненавидел весь мир и хотел жить вечно, назло всем. Когда мне исполнилось двадцать, я вдруг понял, что несу стопроцентную ответственность за свою жизнь. Эта мысль сделала меня сильным, и захотелось умереть.
Жизнь после смерти. Данная формулировка применяется в контексте бессмертной души и бренного тела, но разве нельзя умереть, продолжая жить? Например, сломав позвоночник и навсегда лишившись возможности двигаться? Или впав в летаргический сон? Живёт ли больной раком последний год своей агонии? Живёт ли тот, чей мозг поедают паразиты?
Наверное, живёт, но совсем другой жизнью — по сути, загробной. Это и есть жизнь после смерти; она же жизнь после диагноза. Однако и в таком случае жить можно. Может, не всегда нужно, но определённо можно.
Например, я так и не умер, не смотря на все заверения врачей. Говорят, что разные болезни не уживаются друг с другом — ложь: списка моих заболеваний хватит на составление медицинского справочника. Впрочем, я уникум: мои Т-лимфоциты видоизменены, из-за чего у меня наблюдается болезнь, которой, по статистике, страдает 1 из 100 000 человек.
Никогда не думай, что твой крест самый тяжкий, оглянись вокруг, и ты поймёшь, что всегда найдутся те, кто почти пал под тяжестью ноши.
Я один из тех, кто несёт в себе ген смерти. Сценарий жизни таких людей есть бессознательное самоубийство. Церковь называет их бесноватыми.
Они губят себя с врождённой осторожностью, которой отравляют жизнь близким. Они играют со смертью, балансируют на грани, но переходят её только в последний момент, пережив тех, кто пытался им помочь.