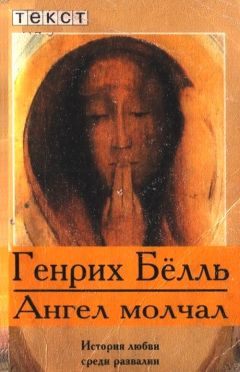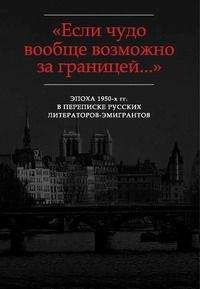Анатолий Знаменский - Без покаяния
Шапки вот только нету, а голова стриженая, ершистая и притом приметная. Плохо.
Подумал-подумал шофер и шапку свою с теплой головы ему нахлобучил на лоб и глаза:
— Носи, парень! — И еще добавил: — Канай в столовку, тут за углом!
Вылез Ленька из кабины, размялся, телогреечку старую, промазученную одернул щеголевато. И засмотрелся снизу на чернявого шофера за баранкой.
— Слушай, браток, скажи хоть, как звать тебя, а? Всю жизнь буду помнить!
Впору разреветься Леньке от счастья и человеческой благодарности. А шофер за баранкой — битый, сволочь! — усмехнулся только:
— Ладно, канай! Сочтемся… Колька Снегирев тебя подбросил и ладно, молчок. — Тут он большой палец выразительно сунул в рот себе и вроде как прикусил зубами: могила, мол… Молчок!
Врет, подлец. Заливает! Тоже на другую фамилию клеит его. Колька Снегирев лет десять тому назад отбывал, и на Чуйском тракте, тоже по пропуску. Катал там на зеленом грузовике АМО с дымком, а рядом Райка-шофериха американского «форда» водила. Ну, и любовь промеж них загорелась, и погиб тот Колька Снегирев, потому что не управил на крутом повороте, полетел в машине со скалы. Точно известно из лагерной песни. Ее все знают, эту песню:
Мчат по Чуйскому тракту машины…
Много было на них шоферов,
Но был самый отважный детина
Среди них —
Николай Снегирев!..
И еще «Форд проворный и грузная АМО по-над Чуем летели стрелой…»
Да когда это было! Давно это было, в первую пятилетку. Так давно, что слезы наворачиваются…
Ведь вот вспомнится такая песня в острую минуту — и в душе какая-то пленка лопнет со слезой: а ведь и вся-то наша жизнь проклятая в этой песне! Вся наша жизнь проклятая, лагерная! Ленька еще на дровнях сидел, еще брательника мертвого в шубной поле у матки видел, еще коменданта, сопровождающего ссыльный обоз, страшился, не успевал зелеными глазами мир Божий разглядеть, а русские парни уже БАМ какой-то начинали строить, и тракты насыпали, и на машинах газовали по пропускам, и даже любовь крутили с вольными шоферихами — и ничем ты их не убьешь, этих парней! Эх, мать родная!..
Хлопнул Ленька звонкой ладошкой по голенищу, вроде плясовое коленце из «Цыганочки» сделал: Снегирев так Снегирев! И пускай — Колька! Человек из хорошей песни, давний бродяга, а на поверку — вот он, совсем живой, черномазый, веселый! Только большой палец прикусил да хитровато глянул: молчок, мол… А открываться ему не резон, раз маршрут нарушил да еще вольную бабу тут — …это самое. То-то он и спрашивал давеча, как житье на штрафном. Оно и понятно: за вольную бабу одна дорога — к ним на штрафняк, на общие подконвойные работы.
— Спасибо, Никола! — глухо, с клекотом в горле сказал Ленька, поддернув вохровские штаны. — В жизнь не забуду, век свободы не видать!
А шофер еще в кармане что-то пошуровал, но, как видно, не нашел, чего искал. Хлопнул только по плечу Леньку.
— Валяй! В столовке спроси официантку Раю. Белобородову. С ней словом перекинешься, она тебе каши вынесет… Сейчас ведь и деньги ни к чему, все по карточкам…
Это он, значит, и денег собирался ему дать!
Заплакал Ленька по-настоящему и, чтобы скрыть от шофера свои горючие слезы, чуть ли не бегом рванул от машины.
Электрических лампочек впереди много было, а в глазах Леньки и того больше. Дробилось, множилось все в его мокрых глазах, плачущих от великого счастья.
11
А вот и столовая! Двери широкие, двустворчатые. Та половина, что открывается, — на пружине.
С трудом одолел Ленька пружину, а вошел все-таки. Попер прямиком между столов, чего стесняться? Телогрейка на нем мазутная, так он с детства — рабочий человек. А молодым везде у нас дорога, старикам, само собой, почет. И за столом никто у нас не лишний, едрена феня!
Народу много, самый обед. Хорошо. Тарелок на столе до хрена.
Вспомнил про официантку Раю. Забился в угол, за фикус, и высматривает оттуда.
Официанток штуки четыре, и все здоровые, все откормленные, все красивые, сучки! Какая ж!.. Какую отозвать?
Тут седой гражданин в брезентовом плаще, надетом поверх кожуха, недоеденный суп брезгливо от себя отодвинул (видно, желудок у него кислую капусту не принимает), за гуляш принялся. Ленька этот супец незаметно к себе потянул и ложку длинной рукой достал.
Гражданин на него исподлобья глянул, ничего не сказал. Теперь это не в редкость и в вольной столовке. Да и гражданин сам, если судить по обветренной физии, недавно из зоны. Может, свою десятку на прошлой неделе отбухал. Тут все население — либо из вохры, либо из бывших. Ну, этот дядя на лагерного железного прораба смахивает.
Зачистил Ленька и тарелку после него. Стал опять присматриваться к официанткам. Две — совсем девчонки, две постарше. И одна из них — плотных, грудастых — самая резвая, горластая, на всех покрикивает — не иначе, какая-нибудь активистка из ихнего профсоюза, а может, и партийная, хрен ее знает. Короче, подходить страшно. Другая — явно не по шоферу, старовата.
Подстерег Ленька одну из молодых, что в соломенных кудряшках — не девка, а пряник с маслом. Она как раз мимо пустые тарелки высокой стопкой несла.
— Мне бы тетю Раю… Бело-бо-ро… Не вы? — громко шепнул Ленька и осекся на полуслове, только теперь уяснив фамилию, названную ему шофером: Белобородова…
Как заорет официантка на всю столовую:
— Раиса Трофимовна, вас!!
Да не надо бы так орать, зануда грешная! Ничего они не понимают, эти вольняшки!
Но Рая-то… Бело-боро-дова, значит? Вот дела-а! Может, штаны-то на Леньке помкомвзводовы? Он ведь, точно, в самом городе и живет!
А вот и прет к нему через всю столовую та самая горластая активистка. Между столов, как ледокол между льдин, продвигается, бедрами играет и подозрительно смотрит. Сама вроде грузновата, лицо молодое, молочное — укусил бы с тоски за розовое ушко! А глаза-то, глаза! И строгие, и бархатные — умнющие такие бабьи глаза!
(Как бы не заметила на нем мужнины гали, а то мало ли чего подумает!)
— Вам — что?
— Я, это самое… От Николы я…
— Да что нужно-то?! — орет активистка, а грудь у нее тяжелая, как наковальня, колыхается. Упыхалась за день, видать, на ответственной работе.
— Каши бы малость… Похавать, а? Никола сказал — тетю Раю…
Повернулась она молча, как заведенная, и — на кухню. Чисто работает, без лишних слов, сразу видно, что идейная баба.
Ленька сзади ее оглядел привычным и сметливым взглядом. Спокойно оценил, что ничего себе выбрал Никола забаву. В общем, неплохой марки машина!
А эта, Рая-то, уже примчалась. Катанула по столу миску, как по льду, а в ней — не поверите! — целая гора каши.
Не тарелку, а миску — малированную! С маслом!
Тьфу, черт! Не спишь ли ты, Сенюткин? Ты же Мороз, ты же Синицын, ты же брянский волк? На четверых приперла эта красивая полуторка. Сейчас погужуемся!
Только ткнул он ложкой в масляное пятно, как осенило его.
Чудик ты, Сенюткин! И на кой ляд тебе воровать в будущем? Выйдешь на волю через два года, перво-наперво наберись кое-какой силенки, а потом заводи себе такую вот Раю Белобородову и жри бесплатно кашу от пуза! Сроду в тюрягу не поволокут, и жизнь для тебя будет, как в той блатной песне: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно тянет продавец…»
Но каша как каша. Тот же магар, что и в зоне. Такое мелкое просо, какое до войны только птице скармливали… Только с маслом горчичным и — много. Не только на язык, но и за обе щеки хватает. Запихивает ее в рот Ленька, жует с жадностью, а все еще в миске остается. Не жизнь, а сказка! И облизывать пустые миски не приходится. Не так воспитаны, едрена вошь!
А ведь и шоферу, видать, Ленька по душе пришелся. Чудно! Всем он нравится как человек, с кем жизнь сталкивает. Наверное, и жив поэтому до сих пор.
Короче, осилил Ленька порцию. Поглядел на Раю сытыми, маслеными глазами, вроде спасибо молча сказал.
Так вон, значит, какая ты… умная, ладная да красивая Райка-шофериха! Молодца! Хвалю, девка! Не упускай своего, пока там Белобородов с вохровскими овчарками целуется!
А чего же тут удивительного? Жизнь, она известная каждому! Намаялась такая красивая девка в каком-нибудь колхозе по завязку, наглоталась бесплатных трудодней, а тут этот жиловатый Белобородов в отпуск заглянул в родное село — с петлицами, с выправкой, с разными идейными словами. Подумала-подумала — и очертя голову была не была! Пропади ты пропадом! — кинулась за ним на Север, чтобы жизнь повидать, а заодно и от пустых трудодней избавиться. Приехала… Ни кола ни двора, одни портянки мужнины да лохматые елки в окне. Правда, мужиков настоящих — хоть пруд пруди! На любой скус, как говорится. Тут тебе инженеры бесконвойные, и кремлевские врачи, и крупные воры-медвежатники, специалисты по несгораемым шкафам, и, конечно, наша родимая шоферня!.. Ну, поначалу-то она совестилась, конечно, а только ведь любовь-синицу никуда не спрячешь: глядь, и запела! А Белобородова по целым суткам не бывает дома, он за десять километров служит. И вот в этот самый момент и подкинул Никола-шофер дровишки к дому… К тому еще и такой порядок в лагере: заключенному за какую-нибудь хозяйственную услугу деньгами платить нельзя. Даже и запрещено. Надо его, стало быть, в комнату или там на кухню позвать, горячим борщом угостить с морозу, спасибо сказать — он и тем доволен. А он, этот зэк, земляком оказался, с одного району, а то и сельсовету… И грудь у него широкая, и рубаха нараспашку, и чубчик хотя и коротковатый, но кудрявенький… Слово за слово, поглядка на поглядку с прищуром, а там и голос дрогнет у бабочки: «Погоди, не спеши, миленький… Счас токо покрывало с койки сдерну… Й-ех, разудалая моя головушка!..»