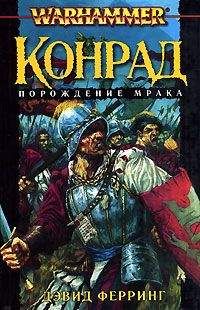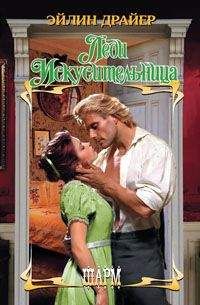Гарри Гордон - Обратная перспектива
Километрах в полутора от причала родственник преисполнился любви к своей жене, встречающей его, возможно, на берегу. Он выпрямился во весь рост, приложил ладони ко рту и полётным голосом закричал: «Дина-а! Я люблю тебя-а-а!» Этого ему показалось мало, и он шагнул в сторону берега, к борту, где сидел Сашка…
Карл увидел перед собой голубое днище. Оно лоснилось, как спина дельфина. Вода оказалась холодная, но не слишком, свитер намок мгновенно и держал градус.
Очкарик Сашка бултыхался сосредоточенно, — длинноногий, он пытался нащупать дно и, не нащупав, сдирал с себя сапоги. Очкарик родственник, выпучив глаза за стёклами и отдуваясь, пытался дотянуться до перевёрнутой лодки. Карл прикинул — до берега далековато, и с сожалением, нога об ногу, содрал свои сапоги тоже.
Родственнику помогли добраться до борта, Сашка нащупал дно, и все успокоились и даже развеселились. Карл всё же сердился — не хватало утонуть на мелководье во имя чужого шутовства.
Материальный ущерб составили две сумки с продуктами, две пары резиновых сапог, насос «Малыш» и две с половиной бутылки водки.
Не считая, правда, Сашкиных ключей от машины с кнопкой сигнализации. Кнопка намокла, и машина больше не завелась. Никогда.
Случались штилевые закаты с торчащими на корме удочками, когда ялик слушался малейшего движения весла, всё понимал, улыбался и подмигивал.
Татьяна выгребла из узкого коридора между стенами тростника. В коридоре стояли лилии и кувшинки — не намотать бы — выгребла на чистую воду, Карл повспоминал немного, разобрался с подсосом, дёрнул с волнением за верёвочку. Мотор завёлся со второго раза. Карл вздохнул с облегчением, сел поудобнее, пристально посмотрел вдаль. Достал сигареты и попросил Таню прикурить.
5
Небо обложило от леса до леса, редкие капли падали весомо, со значением. «Пойти сетку проверить, — решил Славка. — Как зарядит — хер выберешься, а рыба подохнет».
Он надел болотные сапоги, взял ведро. Тусклое облако светилось на мокрых досках причала. На лавочке сидел Николай Рубцов. На нём была короткая курточка с капюшоном, в покрасневшей озябшей руке — бутылка портвейна.
Славка подошёл почти вплотную, но Рубцов помалкивал. Славка закурил и выжидал с любопытством. Наконец Рубцов, не оглядываясь, заговорил:
Рубцов:
Мне лошадь встретилась в кустах,
И дрогнул я, но было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном…
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца
Переглянулись по два раза.
И я спешил — признаюсь вам —
С одною мыслью к домочадцам:
Что лучше разным существам
В местах тревожных не встречаться.
Славка:
— Это у тебя, Николай, болезнь такая. Как её… Хорёк, что ли. Шёл бы ты и, правда, к домочадцам, чем болтаться по тревожным кустам.
Рубцов:
— Счастье твоё, Славка, что я люблю тебя, как русский народ. А то дал бы тебе по морде. Выпить хочешь?
Славка:
— Давай.
Он взял бутылку и хмыкнул:
— Давно не пил из горлА. Пора тебе, Николай, завести стакан. И дом. И лошадь. И бабу.
Рубцов, горестно качая головой:
Россия! как грустно! как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.
Славка:
— Так починил бы. Это вон Борисыч, — он кивнул на полузалитый дождями ялик. — Борисыч не может. Старый уже, слабосильный, а ты… «Матушка возьмёт ведро, молча принесёт воды», — передразнил он. Здоровый лоб вымахал, а воду ему старуха таскает. Да ещё молча. Не перечит…
Рубцов:
Я забыл, что такое любовь,
И под лунным над городом светом
Столько выпалил клятвенных слов,
Что мрачнею, как вспомню об этом.
И однажды, прижатый к стене
Безобразьем, идущим по следу,
Одиноко я вскрикну во сне
И проснусь, и уйду, и уеду.
Поздно ночью откроется дверь.
Невесёлая будет минута.
У порога я встану, как зверь,
Захотевший любви и уюта…
Славка:
Конечно, ни детишек, ни кола
И не двора — не оберёшься боли.
Любил бы ты потише, Николай,
И посамоотверженнее, что ли.
Ты заблудился в собственном лесу
Меж радостью, печалью и недугом.
И не тряси ты нашим русским духом, —
И так шибает в нос, куда ни сунь
Рубцов:
Россия, Русь — куда я ни взгляну…
За все твои страдания и битвы,
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя…
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Славка:
Знаешь, даже неловко
Слушать высокий слог.
Ты б для начала лодку
Проконопатить смог.
Ты б для начала бабу
Добрую полюбил,
Ты бы курочку Рябу
Зёрнышком покормил.
Ты же поэт хороший,
Вот и сиди, пиши.
Что ты всё строишь рожи
В нашей лесной глуши!
Рубцов озадаченно посмотрел на Славку.
— Я русский! — сказал он, отхлебнув из бутылки.
— Это ты сейчас русский. А как помрёшь — хер тебя разберёт, русский ты или мавританец!
6
Дождь стучал по капюшону, глухой шум застревал в ушах, мешая слушать, правильно ли звучит мотор. Карл время от времени заглядывал, как учили — вытекает ли струйка охлаждения, хотя, если перестанет вытекать, что делать — неизвестно.
Шершавая река выгибалась, пружинила, тёрлась о берега, как плотва в нерест. Окружающая красота захватывала дух, и Карл сердился — он устал быть свидетелем красоты, земной и неземной, платоническим любовником закатов и контражуров, пора было вступить в связь с небесами и произвести на свет что-нибудь живое, хоть карлика…Тьфу, прости Господи. Всё — разберёмся с колодцем, и — в Москву, в Москву!..
Тане здесь хорошо — у неё долгие мучительные отношения с землёй: грядки держат в напряжённом ожидании чуда, и действительно — земля подпускает близко, открываются крупные планы, шевеление химических процессов происходит чуть ли не на глазах: всасывается навоз, черви гранулируют почву, пробивается семядоля. Выскакивают неожиданно ростки посеянных, потерянных два-три года назад корневищ — чеснока ли, лука, любистока… Это поинтереснее садоводства — там всё чётко и прагматично: отпилил, замазал, опрыскал, привил. Отошёл в сторону — полюбовался цветением. И всё для того, чтобы осенью всучивать родственникам и знакомым коробки с подгнивающими — хранить негде — яблоками.
— Интересно? — спрашивает Татьяна. — Так давай, садись рядом, ковыряй, кто мешает.
Да никто не мешает. Но и не помогает. Интересно, но не твоё. Приходится быть помощником, подсобником на подхвате — не оставлять же Таню одну.
При повороте на Пудицу нужно быть осторожнее, можно бы и помолиться — здесь, неизвестно почему, часто происходит что-нибудь нехорошее — то мотор заглохнет, то весло сломается, то утонет по-пьянке местный человек. И берега здесь низкие, заболоченные, заросшие непроходимым ивняком и ольховником, не проберёшься, случись что-нибудь.
Приближаясь к мосту, Карл с облегчением разглядел на пригорке одинокий «Москвич», — они опаздывали минут на двадцать, мужики могли не дождаться. Казанка лихо врезалась в песок, Карл спрыгнул, подтянул лодку, помог Татьяне выбраться. Из машины вышли двое, съёжившись под дождём, поднимая воротники. Татьяна раздала плащи, и гости выпрямились.
— Павел — назвался бригадир.
Он был в джинсовой курточке, лицо его светилось любопытством. Второй, Виктор, с виду студент, оказался студентом, правда, заочником.
Карл извинился, попросил всех посидеть недолго в машине и пошёл за водкой. Он взял три бутылки — одну к столу, вторую — на всякий случай, третью — просто так.
Странное дело, когда деревни были населены, водку завозили редко и мало. Теперь же, в пустой деревне, водка продавалась круглосуточно, и было её столько, на любой вкус, что хватило бы на десяток деревень, прежних, населённых… «Зачем!» — как сказал бы Славка.
Карл деловито, на глазах у незнакомых зрителей, залил бензин, усадил пассажиров, оттолкнул. Мотор завёлся с первой попытки.