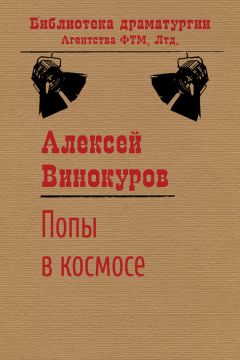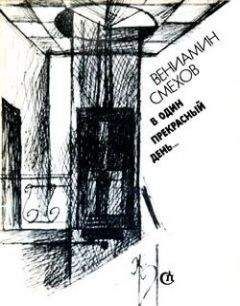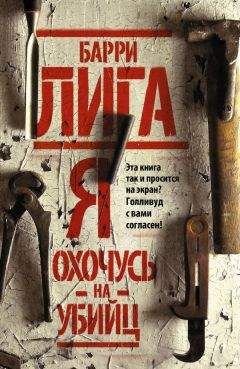Вениамин Смехов - В один прекрасный день...
– Простите, можно вас на две минутки?
– Да, слушаю.
– Вы нас не знаете, мы из Куйбышева. У нас командировка на два дня. Собственно, это фиктивная командировка. Вот. Вчера в «Современнике», на «Пятой колонне» погорели, целый день погиб…
– Простите, чем я могу служить…
– Да-да! Простите! У нас не было другой надежды – только вы. Билетов в кассе – ну, вы же знаете…
– Простите, я опоздаю, я ничего, к сожалению, не могу для вас.
– Ну, товарищ Павликовский! Ну, родненький! Леонид вернулся. Почему он вернулся? Он же опаздывает. Зачем эта сцена? Он ведь не администратор.
– Я понять не могу: почему, собственно, вы ко мне… я ведь не администратор… почему вы ко мне?
– Видите ли, у нас ездили другие… Ну, одним словом, у нас говорят: если билетов не достанешь, попроси Павликовского, а в Сатире – Авшарова, они добрые, они помогут…
– Алло, Элла Петровна, это Леня, да. Ради Христа, два «стоячих»… да, спасибо. Идите в кассу, на мою фамилию входные билеты.
– Ой, товарищ Павликовский!
– Да быстрей, быстрей, она раздумает!
– Ой!
Исчезли инженеры, муж с женой. Или сослуживцы. Она, между прочим, очень даже ничего… Гм, ну, вперед.
– Леня, привет!
– Здрасти.
– Добрый вечер.
– Добрый вечер.
– Приветик, Павликевич!
– Здорово! Потом, потом, Кулич, пусти, не шути, а то как врежу…
Все в порядке. Настроение – случилось! Гримерная. Леонид напевает. Родилось нетерпение, оно сладко щекочет, подбирается к душе… Это и есть предчувствие живого, его, павликовского, Хлестакова… Спасибо инженерам из Куйбышева. И тебе, Урал. И тебе, Амур. И вам, тридцать пять тысяч моих курьеров. Только одна просьба: дайте покой, дайте медленно раздеться, переодеться, загримироваться… Не трогайте человека. Хорошо, что Мишка Боскис, сосед по гримуборной и вечно хмурый друг Леонида, не занят в «Ревизоре». Один! Это прекрасно. Одевшись, вызвать старшего гримера. Старик Виктор Поликарпович – грубый голос, нежные руки – мастер всесоюзного значения. Каких он только не лепил портретов: и Николая II, и Пушкина, и Маяковского, и Горького! Портретный грим – это значит: глядишь на актера и ахаешь, что это Пушкин сошел с портрета.
– Здравствуйте, Виктор Поликарпович.
– Хлестаковствуйте, Ляксеич! Готов? Паричок. Так. Держи височки. Молодец. Ну, красавчик какой. Все не соображу, Ляксеич. Вот девицы сохнут, допустим, по тебе. Ну, хорошо. Но как ты их обслуживаешь – в розницу аль оптом?
– Девицы по Куличу сохнут. Меня чтут исключительно пожилые дамы и дефективные интеллигентки.
– Ляксеич, тю! Старого доку облапошить норовишь? Тю на тебя. Али я не вижу? Такого красавца такие роты у подъезда дожидаются! Неужто огорчаешь девчушек?
Леонид вдруг вскочил и, покровительственно обняв старика, сказал себе в зеркало:
– Душа моя Тряпичкин, при взгляде на слабый пол – гадом буду, завсегда сам же и слабею. Так что уж я становлюсь слабым полом, а дамы – сильным… Любят меня здесь, душа моя! И что ни дама, то, не поверишь, конфект, роза, эмпирея, Экзюпери, одним словом… Как другу могу открыть: сидишь, бывало… вот эдак рукою объемлешь формы… такие формы!.. И вот так: тут маменька, тут дочь (и одна другой обольстительней!), а тут, гадом буду, еще две болонки (посольские жены)… и тоже с формами головокружительными… а я их эдак фронтально лицезрю, потом как хорально приближу… ах! Душа моя… чувствую в груди своей силы необъятные… впрочем, это уже из Некрасова.
– Ха-ха-ха! Импровизер, Ляксеич!
Раздается второй звонок. Леонид выходит покурить. В коридоре диванчик. Как хорошо. Тьфу ты, ужасно: идет! Самый нелюбимый человек – жена главного режиссера Тина Иванна. Ужас.
– Здрасти, Тина Иванна. Какое платье красивое! И очень вам…
– Полно врать-то. Старое платье. Правда, в Копенгагене купила. Меня ваш Хлестаков в прошлый раз огорчил. Я, знаете ли, скрывать не привыкла, пускай мой муж вас лелеет. Огорчил Хлестаков. Я ведь, милый мой, Михаила Чехова помню в данной-то роли.
Ну, помнишь – и помни. Отстань, дереза. Все. Кончился кураж. Обдавая собеседника смешанным ароматом французских духов и коммунального духа, дереза надменно учит, мучит, цедит, зудит и испытывает терпение. За что больше всего не любят эту «даму номер один», так это за собственное бессилие. Если б она хоть в отдаленной степени представляла себе, что о ней думают и говорят за глаза – она бы исчезла навеки либо ушла в монастырь. Но ни один работник театра не в состоянии глядеть правде в глаза, а если глядит Тине в глаза, то говорит неправду. Ну что это за мерзость: «Какое у вас платье красивое!» Ужас. Говорят, эта Тина с мужем-главрежем была у друзей в Киеве, у знаменитой актрисы Ляли Котовой. И Тина вела свой обычный адский разговор о том, что все вокруг – прах и что всем изменяет вкус, а если есть что приличное, так это только следы влияния ее мужа на театральное искусство страны. Ну, всех покрыла… Вахтанговцы – пошлейшие, «Современник» – пустейший, эксперимент на Таганке – «Мейерхольд для бедных»… Говорила, зудила… Вдруг Ляля, актриса, подруга, перебивает ее раздраженно: «Тиночка, как можно! Ты преувеличиваешь. Вахтанговцы – народ талантливый, со своим прошлым и прочее. „Современник“ – очень любят, Таганка, говорят, яркая, смелая, всех радует. А ты, Тиночка, все черной краской…» Тина побледнела и сказала феноменальную фразу, выпятив глаза и сокрушенно качая головой: «Ля-ленька-а, какая ты стала злая-аа…»
Еле сбежал от дерезы, хотел снова взойти в настроение, стоп. Опять у накидки пуговица на ниточке.
– Варя! Нина! Костюмеры!
– Иду! Слышу!
19 часов московского времени. Прожит двенадцатый час рабочего дня Павликовского Леонида…
– Иду! Что еще, Леня, ну?
– Это что? Вам мало трех раз? Три раза просил, трижды вы мне клялись затянуть пуговицу, ну как я выйду на сцену?
– Про три раза не слыхала, зашить зашью, орать не надоть, Леонид, не надоть…
– Леонид Алексеич я! А когда человека изводят и работать не умеют, человек орет!
– Не надоть, мине плявать на ваше нервность, у мине самой нервность. Зашить зашью, орать идитя на своих девок, актрысочек. На них оритя и чего хотитя.
– Халтурщики! Делов-то на копейку! Проверить одежду – и все. Жалуются: денег мало, крику много в театре, нравственность не нравится. Ах, справедливцы!
– Ну, чего разорался? Тебе ж играть, мил-чек!
– Да я не на вас! Мне вас даже жалко. И правда, зарплата плевая. Но это меня с полуоборота всегда бесит… Никто не умеет работать! И не хочет! И стыда нет за это! Тьфу! Золотые руки – ну да, золотые. Но эти золотые руки должны не на пузе лежать, а дело делать!
– Вот верное слово, Ленечка, верное слово.
– «Верное»… Скверное! Мастера справедливых речей, любители собраний! Театр называется. Меня что бесит: победителем соревнования назвали Павликовского и Куличева, за что? За то, что без опозданий, за то, что всегда трезвые на сцене и плюс вечера организуем! Так это же норма! А мы – герои! Стыд божий! – И чего он перед старухой выступает, чушь какая-то.
– Верное слово. Мне зять, бывало, тоже: «Нынче, мол, из семи часов четыре часа по собраниям шастал. Теперя четыре дня выходных, мол, пущай дают за вредность!» Вона как! Устал, мол, на собраниях сидеть!
Ишь ведь зять какой пошел усталый. Спуск по лестнице на сцену. «Усталый зять». На секунду оставалось в душе эхом – воспоминание. Так хотелось, так просилось описать этот рассказ Тамариной мамы, Нины Андреевны… Усталая теща – бессонные годы – усталая страна… На секунду вспыхнул старый разговор:
– Видишь как, Леня. Сорок, наверное, четвертый, может, начало сорок пятого. Кириллу пять лет, он у бабушки с дедушкой в Пушкине. Тамара еще не родилась. А я, как ты знаешь, одна за всех: и в проектно-технологическом тяжмаша, и в Морфлоте, и еще по мелочам подрабатывала. Видишь как. А по субботам непременно ехать на дачу, там четверо с открытыми клювиками – мама, папа, Кирочка и Лиза. Она без мужа, и я без мужа. Северный вокзал, сама в три погибели, две сетки связаны коромыслом – через плечо (а где связаны – там платок носовой, чтоб не натирало), в левой – здоровая сумка, в правой – портфель, того и гляди, лопнет от натуги. Видишь как. Вокзал, конечно, больше похож на филиал сумасшедшего дома. Да, я обещала один случай рассказать. И вот, Леня… и чего вы так про войну любите слушать, я как вспомню свой видик зачуханный – жить не хочется, такая была страшная усталость. Никто и ничто не ехало, не ходило – все ползло! И люди, и трамваи, и поезда, и время. Да, видишь как. Помню, влезла в вагон, суббота. Повезло невероятно, и сумки пристроила, и сама сижу. Боже мой, какое это счастье – и сумки пристроены, и сама сижу. Наверху две сетки, под ногами третья махина, на коленях – тот портфель. Черт с ней, с тяжестью, – сижу, Леня. Поезду ехать час, лица кругом серые, худые, у всех стоячие глаза. Знаешь, у реки вода живая, а в пруду стоячая. Вот такие глаза у каждого-каждого. И я-то не про сына, не про родных думаю, хотя целую неделю не виделись, а я только об одном: господи, поспать бы! Видишь как. И вот этот случай. Да он обычный, никакой экстравагантности… Ну, а в тот момент, конечно, чувствительно было. Сижу я таким образом в вагоне и собираюсь подремать. А слева от меня – дядька военный, о чем-то сразу у меня уточнил… а, ну конечно: сколько времени до Софрина ехать. Я говорю: мне выходить за две станции пораньше, я, мол, предупрежу – ну, это понятно. Запомнила, что голос у него солидный, гимнастерка очень видоизменилась за войну, рука, дальняя от меня, висит плетью и приличное количество орденов – судя по планкам. Лицо совершенно, Леня, непередаваемо усталое. И сразу думаешь: ну, это не мы, это не тыловая бессонница… Это тысяча дней и ночей в окопах; и сразу думаешь: невероятно, что вот этот рядышком сидящий мужчина, солидный, интересный… совсем недавно видел смерть по сто раз в день, шел сквозь огонь, грохот, сам себя хоронил, наверно, бесчисленное множество раз… Вот тебе трудовые будни: на завтрак – артиллерия, на обед – танки, на ужин – штыковая атака и ночью тоже… веселый бег с препятствиями… Это, Леня, очень сильно мы тогда чувствовали, когда глядели на боевых раненых… Видишь как, он спросил меня, а я ему ответила и вдруг еще до конца моего ответа вижу, что он заснул. Ага, моментально ресницы опустились, и спит. А поезд качается, голова его держится прямо – буквально «по стойке смирно», «по-офицерски», но ведь трудно во сне такой рекорд, извини за выражение, показывать. Трудно, ну и через минуты две-три, очевидно, его голова вот так – я, как артистка, тебе демонстрирую – и медленно дошла до моего плеча. Разок снова поднялась, ну и опять свалилась – господи, какая тяжелая голова! Бедный, я подумала, – ну что ты будешь делать…