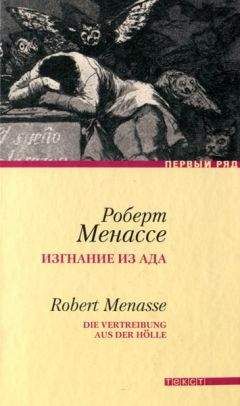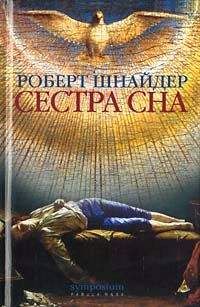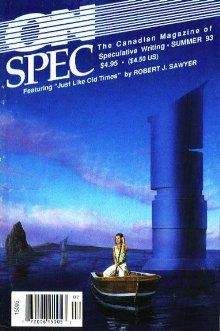Роберт Менассе - Блаженные времена, хрупкий мир
Когда они гуляли с Юдифью в венском Пратере,[11] Лео заставлял себя ходить по-стариковски, осторожно, слегка наклоняясь вперед, заложив руки за спину. Ему запросто могло прийти в голову прикоснуться к Юдифи, взять ее под руку или обнять за плечи — но руки были сцеплены за спиной и удерживали одна другую. На все мысли, которые высказывала Юдифь, даже если они представляли собой нечто новое для него, он отвечал неизменно резким, шипящим «Чушь!», неуклонно прорываясь с помощью этого своего постоянного сопротивления к более общим и более радикальным мыслям, которые он затем, дома, записывал.
В моменты полной раскованности Юдифь тянула его за руку или же подталкивала в спину, пытаясь заставить идти быстрее, но он продолжал идти все той же стариковской походкой, пропускал ее вперед и наблюдал, как она в конце концов вновь дожидалась его, чтобы идти вместе. В такие моменты, наблюдая этот юношеский напор движения и жизни, Лео мог сознательно испытывать особое чувство, чувство полной проясненности, как он думал. Ведь ему стоило лишь сказать про себя «проясненность» — и он уже ощущал ее.
Очки, которые раньше он надевал лишь время от времени, он теперь носил постоянно. Он был уверен, что в очках выглядит умнее, хотя большей частью и поднимал их на лоб, чтобы они не давили на маленькую бородавку у него на носу.
Ему необходимо было постоянно быть рядом с Юдифью, чтобы разработать внешние знаки отчужденности и удаленности от жизни, которые так или иначе глубоко укоренились в его душе. Вскоре он не мог уже даже просто перейти вместе с Юдифью улицу без того, чтобы, оглядываясь налево и направо, не держать в голове одну и ту же основную мысль.
Чем чаще он встречался с Юдифью, тем сильнее он тосковал по ней, тем сильнее грустил оттого, что должен отказаться от настоящего и длительного соединения с ней. Чем сильнее тосковал, тем чаще встречался с ней или писал ей. Иногда они целовались. Но это была в конечном счете своего рода братская сердечность, хотя его ощущения при этом отличались напыщенностью. Лео страдал от этого. Но страдание делало свое дело. «Томление и форма» возникали, как положено.
Однажды он провел у Юдифи целую ночь. Собственно говоря, за чаем и виски они спорили о Достоевском, Лео пил в основном чай, Юдифь — виски. Вдруг они увидели, что за окном посветлело, и услышали щебет птиц. Это была их первая ночь вместе. Она породила работу о Достоевском, которую Лео намеревался сделать отправным пунктом всеобъемлющей теории романа. Но теория написана не была.
Квартира Юдифи очень удивила Лео, более того, он ощутил зависть. С какой любовью и уютом она была обставлена. Никакого сравнения с его квартирой. Насколько лучше ему работалось бы, если бы он жил здесь, у Юдифи. Как здесь было удобно и спокойно, так и хочется сидеть здесь не выходя. Весь день оставаться дома, обложившись подушками на мягком диване, можно было бы часами читать и читать, не утомляясь, там, за большим письменным столом, сев в удобное крутящееся кресло, можно было бы писать, да и печка на жидком топливе была гораздо удобнее, чем его печь, не надо было постоянно подкладывать уголь, так что не приходилось то и дело прерывать ход своих мыслей. Что за абсурдная мысль. Лучше привести свою собственную квартиру в более жилой вид, подумал он, создать себе более подходящие условия для жизни и деятельности. Тогда ему было бы хорошо дома и не приходилось бы так часто сбегать — кстати, это повысило бы продуктивность его труда. И эта мысль была абсурдна. Так же абсурдна, как мысль о том, что пора купить себе какую-нибудь другую одежду только потому, что те тяжелые и тесные костюмы, которые ему приходилось постоянно носить, заставляли его так сильно страдать. Это было исключено. Не только потому, что у Лео было мало денег. Слишком много усилий это требовало. Надо было бегать по городу в поисках того, что ты хочешь, сравнивать цены в разных магазинах, прилагать силы, чтобы все обошлось дешевле, и, наверное, пришлось бы так или иначе дополнительно что-то подзаработать, нет, это мог позволить себе только тот, у кого нет другой цели в жизни, кроме обустройства собственной жизни. Отныне — он знал это, хотя быстро опять забывал — производительность его труда повышало также и то, что у него была квартира, которая как раз-таки лишена была комфорта. Он носил эти костюмы, потому что они у него были. Разве они его не согревали? Согревали. Он жил в этой квартире, потому что такую квартиру можно было снять задешево. В ней даже письменный стол был. Он мог сидеть и писать за ним так же хорошо, как и за более приличным столом в более уютной квартире. Лео бродил по квартире Юдифи, как по выставочному залу в музее общественной истории. Вот так, стало быть, живут люди.
Что его поразило, так это то, сколько у Юдифи было зеркал. Даже на письменном столе у нее стояло зеркало. Примерно там, где на его столе стоял портрет Левингера. Разве сюда ставят зеркало? На стене висели портреты, все одинаковой величины, в тоненьких черных деревянных рамках. Это были портреты Стерна, Клейста, Гегеля, Маркса, Достоевского. В том же ряду висело зеркало, такого же размера, в такой же рамке. Пробежав глазами ряд из пяти поэтов и мыслителей, он заметил и свой собственный лик. Он был в восторге. Гениально, подумал он, неплохо придумано, такую штуку я у себя дома в любом случае устрою. Он еще раз прошелся вдоль портретов. Стерн, Клейст, Гегель, Маркс, Достоевский, Зингер. Горячей волной поднялось в нем волнующее ощущение собственной значимости, восторг перед великой загадкой будущего, разрешение которой промелькнуло на миг в зеркале. Если бы у него дома была такая вот галерея, как подстегивала бы она его в моменты кризиса в работе. А может быть, и нет. Внезапное смятение. А что, если каждое из его усилий примет столь же причудливую форму, как отражение в зеркале в конце истории, написанной кем-то начисто? Разве зеркалу не все равно, кто перед ним стоит? Кстати, Стерн. Разве он не расправился со Стерном — окончательно и бесповоротно? Лео сделал шаг в сторону и теперь увидел в зеркале Юдифь, сидящую на диване и безмолвно разглядывающую его.
Суровое лицо его матери. Доктринерски прямая осанка. Было бы слишком мало сказать, что она не терпела возражений. Она вообще не ожидала, что возражения могут быть. Если она что-либо высказывала, это был уже окончательный приговор. Как плохо выглядит отец. Не болен ли он? Можен быть, вся эта ситуация просто была ему очень неприятна. У нас было ангельское терпение, говорила его мать, и мы старались приспособиться ко всему. Это возвращение в Вену — надо ведь сначала сориентироваться, прижиться здесь. Мы это поняли. Но нельзя ведь бесконечно учиться. Нельзя бесконечно учиться, Лео. Сын Унгаров одного возраста с Лео, сказала она отцу, он доктор и работает в адвокатской конторе. Сын Понгеров на два года младше. Он преподает в школе. Спрашивали, почему молодой Зингер изучает философию. Чем он будет потом заниматься. Мы проявили понимание. Мы отвечали: он сам разберется. Но, сказала она, строго глядя на Лео, всякому пониманию, всякому терпению приходит конец. Это может дорого нам обойтись, и как-то незаметно, чтобы это шло тебе на пользу. Нельзя же вечно учиться.
Моя мать, рассказывал Лео, когда она что-нибудь говорит, употребляет безличные обороты или говорит «мы». Я сидел и думал только о том, услышу ли я хоть раз, как она скажет «я». Я не припоминаю ни единого раза. Она говорит, что всякому терпению приходит конец, словно это объективное положение дел, словно совершенно невозможно, чтобы она, конкретно она, могла терпеть, как будто терпение, или понимание, или любовь не есть нечто индивидуальное, чем может обладать она сама, нет, терпению приходит конец, это объективный факт, и она с этим ничего поделать не может. Она может только констатировать факт. Все, конец, больше никаких денег.
Теперь я знаю, откуда это у тебя, сказала Юдифь.
Что?
Ну, эта склонность формулировать любую мысль как объективный факт, сказала Юдифь, каждое из твоих представлений тут же превращается в объективную данность. Ты никогда не говоришь: «я думаю, что», а всегда «бесспорно, что». Такое у меня впечатление.
Нет на свете двух людей, у которых было бы меньше сходства, чем у меня с моей матерью, сказал Лео, он почти перешел на крик, да что ты там такое болтаешь, моя мать и понятия ни о чем не имеет, она сидит дома или со своими партнершами по бриджу в кафе, и больше знать ничего не знает, но имеет свои представления о жизни. Она ведь понятия не имеет о том, как пишется диссер.
А что, у тебя, может быть, есть представление о жизни? сказала Юдифь, забежав на несколько шагов вперед, развернулась и прошла мимо Лео. Ты даже в бридж не играешь.
Стоял прекрасный весенний день, каштаны в Пратере были все в цвету. Лео этого не замечал.
С ума сойти можно, с тобой совсем нельзя разговаривать, сказал он. Его охватила паника. Родители согласились давать ему деньги еще год, это был компромисс. На этот раз он действительно ожидал от Юдифи понимания, ему так этого не хватало. Но то, что она сказала, было чудовищно.