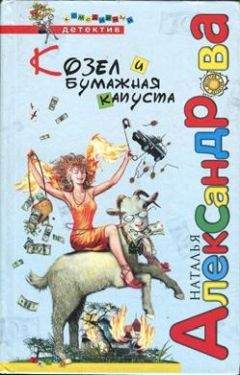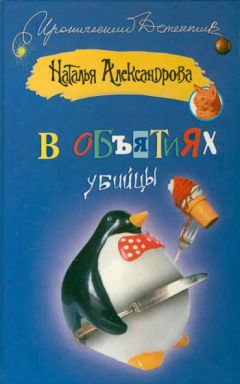Наталья Сняданко - Агатангел, или Синдром стерильности
Он продолжал не обращать внимания на ее рисунки, где все прибавлялось черной краски, пока она вообще не перешла на одних только черных ангелов с длинными когтями на кончиках крыльев и красными зубами, словно еще влажными от крови. Эти ангелы, больше похожие на вампиров, пугали всех их знакомых и детей их знакомых, пока знакомые не перестали ходить к ним в гости, да и сами они перестали приглашать гостей. Им было не до того: она была занята черными ангелами, он — футбольными матчами.
Перед тем как уйти от него навсегда, она дорисовала одному из ангелов длинный синий член, который грустно свисал между изуродованных когтями крыльев. Теперь она живет во Франции и продолжает рисовать картины, которые очень хорошо продаются. Но, кажется, перешла на абстрактную живопись.
Наверное, большая часть моих знакомых в период, когда с ними происходило это странное нечто, начинали писать. Особенно выделяется среди них так называемая «тигиринская группа», в состав которой вошли тринадцать самых популярных поэтов и прозаиков нашего города. Они основали группу, когда им исполнилось тридцать три (раз в десять лет в Тигирине возникает группа ярких представителей того или иного вида искусства, все они рождаются в один год, в один месяц, а часто и в один день, именно эта странная закономерность и дает исследователям основания говорить о «тигиринском феномене» как явлении беспрецедентном в мировой истории искусства), и создали манифест под названием «Густые образцы параноидального синопсиса». В этом манифесте они четко разделили между собой обязанности и права, и теперь каждый из них писал только на одну заданную коллегами тему и издавал все свои произведения под одним названием, прибавляя в конце порядковые номера для лучшей ориентации читателей. В единственном тигиринском книжном магазине их книги складывали на отдельную полку, выставляя вперед новинки: «Неоправданные парадоксы бытия — 5», «Лоботомия скрытого скепсиса — 17», «Мечтательное созерцание ландшафта — 147».
Текст мог быть поэтическим или прозаическим, важно было одно — не отходить от заданной темы. Члены группы не читали никаких книг, кроме произведений друг друга, и с годами у них выработалось необычайное единство стиля, даже трудно было поверить, что все эти произведения написаны разными людьми. Каждый год альманах «Гришкина школьная наука» публиковал новейшие их тексты в декабрьском спецвыпуске.
Два года назад «тигиринская группа» раскололась на две подгруппы — элитарную (10 писателей) и массовую (трое творцов). Элитарная поставила своей целью «развивать отечественные интеллектуальные дискурсы» и требовала от своих членов обязательного употребления в произведениях слов «симулякр» (как самого характерного понятия для нашей деконструктивистской и постмодернистской действительности) и «дискурс» (члены группы придерживались убеждения, что «наша действительность — лишь хаотический сплав случайных дискурсов, который давно уже даже не имитирует упорядоченность»).
Другая группа — наоборот, запретила своим членам употреблять все слова, значение которых человек со средним образованием вынужден был бы искать в словаре, зато требовала обязательного цитирования Леся Подервьянского и употребления разнообразных «пошелнахуй», «самтынедоёбок» и «забазарответишь», чтобы привлекать широкие массы к литературе, приучать их к чтению, превратив его в привычку. Обязательными в творчестве этой группы считаются: описания эротических сцен (минимум четыре на авторский лист), побоищ (не меньше, чем у Шекспира, то есть в среднем одно убийство на 97 строк), наличие убедительных главных персонажей — паренька в кожанке, спортивных штанах, с золотым «роллексом» и выбитым передним зубом; девушки с длинными волосами и ногами, которая все свободное время проводит в салоне красоты, хотя мечтает проводить его на кухне и в детской; честного милиционера и милиционера-взяточника, возможны также другие элементы по желанию.
Еще несколько знакомых, как утверждают наши общие приятели, так и не преодолели кризис среднего возраста, который начался с незаметной смены пищевых приоритетов. Сначала они просто тщательно пережевывали пищу исключительно растительного происхождения, потом у них возрастало чувство глубокого отвращения сначала к пище другого происхождения, а потом ко всем, кто такую пищу ест, они все больше времени проводили дома и все меньше среди людей, а даже когда попадали в компании, то сразу выделялись благодаря специфическому выражению лица и неутомимому жеванию сырой моркови. И вот однажды такие люди вдруг обрывают разговор на полуслове и спешат домой, потому что фасоль у них на кухне как раз достигла идеальной степени зрелости и из нее срочно необходимо приготовить салат. Что с ними происходит далее, никто не знает, да никого это и не интересует.
Есть среди моих знакомых и такие, с которыми не начало происходить ничего особенного ни в 20, ни в 29, ни в 45. Их похмелья можно с точностью прогнозировать по календарному расписанию праздников и отпусков, и с похмелья они вспоминают лишь о запущенном гастрите. У них есть дети и неудобные маленькие квартиры в панельных домах, они все еще сажают картошку, хотя уже и сомневаются в экономической целесообразности этого. Они оставляют свой последний молочный зуб на память в спичечном коробке и ежегодно обнаруживают его в ходе весенней уборки. Эта находка умиляет их, заставляет старательно вытереть пыль, помечтать несколько минут и тяжело вздохнуть, так, словно в этой обшарпанной коробочке лежит что-то гораздо более важное: самые яркие детские сны, самые болезненные подростковые разочарования, воспоминания о первом подсмотренном в замочную скважину сексе взрослых, возможно, собственных родителей. Но они забывают об этих внезапных приступах слабости, когда на следующий понедельник впопыхах хватают с вешалки куртки или припудривают нос перед зеркалом, думая лишь о том, как бы не опоздать на работу и еще успеть забросить детей в садик.
А хуже всего, что к этой группе, похоже, отношусь и я. И если это на самом деле так, то у меня данный процесс начался уже довольно давно. И довольно незаметно, как это бывает с чем-то действительно важным.
Постепенно меняются вкусы, все дольше задерживаются вещи в шкафу, потому что исчезает желание ежегодно заменять их модными, вместо трех дешевых блузок хочется купить одну дорогую, проблематично становится ездить в плацкартном вагоне, начинают нравиться все более толстые и скучные книги, аналогично выглядит и имеющийся выбор мужчин, хотя это уже и не так приятно. Мокрые от пота воротники наглаженных рубашек и купленные на открытом вещевом рынке брюки, которые окружают тебя в утренней маршрутке, словно выросли из чопорных детских воспоминаний. Воспоминаний о плиссированных юбках школьной формы, порванных воротничках из какого-то легкоплавкого нейлона, неровно простроченных розовых бантиках с люрексом по бокам, катастрофическом сочетании коричневого и черного, грязно-серых полосах высохшего пота под мышками, шершавой шерстяной ткани, от которой спина покрывается красными пятнами, грязно-серых (в тон?) капроновых колготках, зашитых толстыми черными нитками. О сменной обуви, спортивной форме и чешках. До сих пор стоит вспомнить только лишь слово, и сразу ощущаешь запах и слышишь писклявый голос учительницы ритмики, полненькой крашеной блондиночки, от которой давно ушел муж, оставив ей двоих детей школьного возраста, и теперь она ненавидит всех вокруг, и у нее всего сорок пять минут полной и неограниченной власти над нами, которые она использует сполна. Сорок пять минут еженедельно мы нестройно шагаем по кругу под звуки дребезжащего и вечно расстроенного пианино, высокие впереди, им воняет меньше всего, низенькие сзади, они отлынивают больше всего. Сорок пять минут приседания на одной ноге, рука опирается на подоконник. Однажды мы даже выучили танец — как говорила ритмичка, грузинский, хотя в нашем нескладном исполнении он выглядел как-то иначе, не очень по-грузински. Мы исполняли его на праздновании какой-то очередной годовщины образования СССР, тогда было пятнадцать групп, и каждая была одета в национальные костюмы одной из республик-сестер, так, как представляли себе эти костюмы наши бабушки в первых рядах актового зала. А ритмичка идеально сумела превратить все это в фарс, ведь танцевать мы так и не научились, как, в общем, не научились и маршировать строем или приседать на одной ноге, держась рукой за подоконник. Мы научились только содрогаться во сне, когда нам чудились дребезжащие звуки расстроенного пианино, и забирать утром свои выстывшие за ночь чешки с балкона, куда их выставляли мамы, чтобы не воняло. Хотя тогда никто так и не заметил, что ритмичка, которая пользовалась лавандовыми духами и неаккуратно зашивала чулки на пальцах, организовала все это пародийно до предела, а если б еще она это сделала сознательно — так получился бы настоящий театральный шедевр.