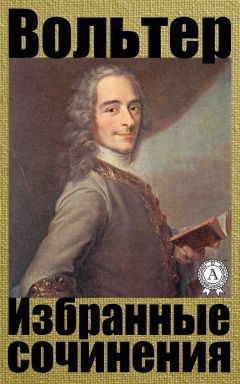Гай Эндор - Любовь и Ненависть
Только от Вольтера ни слова. Вольтер, Вольтер!..
Теперь на какой бы парижской улице ни появлялся Руссо, люди указывали на философа, заклеймившего все достижения человечества, которыми оно так гордилось, на писателя, который смело бичевал современную цивилизацию. «Этот человек, — говорили они, — хочет вернуть мир к прежним временам, когда все мы были дикарями, варварами, когда у нас не было ни книг, ни нашего замечательного, восхитительного искусства, ни наук. Мы были просто свободными, здоровыми дикарями и бегали по лесам нагишом».
На улицах, в кафе, в фойе театров, в посещаемых им домах люди вовсе ему незнакомые считали, что они вправе остановить его и вступить с ним в спор. Какая странная, удивительная, чарующая точка зрения: оказывается, чем человек больше старается себя усовершенствовать, тем слабее, несчастнее и даже злее он становится. Неужели это на самом деле так? Может, он поставил все с ног на голову?
— Что такое? — кричали ему в лицо. — Бедные нации сильнее богатых? Как вы можете проповедовать такую явную чушь?.
— Неужели вы не видите, что история постоянно демонстрирует это? — отстаивал свою правоту Руссо. — Разве Китай в расцвете славы не был покорен и унижен свирепыми монголами[70]? А Греция? Разве она не погибла, достигнув верхней точки процветания и расцвета искусства? А Рим, этот господин всего мира, который жил в мраморных дворцах с сияющими бронзой украшениями, получал громадные доходы и несметное количество рабов из завоеванных им провинций? Разве он не был завоеван и разграблен варварами, у которых не было ничего, кроме тряпья вместо одежды и примитивного оружия?
— Может, вы и правы, — снисходительно отвечали ему, — богатство на самом деле развращает людей. Но вы утверждаете то же и о науках. Разве может наука развращать людей?
— Само знание — это развращенность. Думающий, рассуждающий человек испорчен.
— Что вы несете, дорогой месье Руссо? Как это так — развращен, испорчен?
— Я говорю об этом, потому что это правда! Разве науки не рождаются из развращенности? Например, медицина? Человек не подчиняется законам природы, чтобы соблюдать требования гигиены. Разве не так? Ну а астрономия? Разве не возникла она из суеверия астрологов, разве не стала результатом безбожных попыток человека проникнуть в тайны будущего? А геометрия? Разве не вызвала ее к жизни алчность земельных собственников, которые хотели точно измерить принадлежавшую им собственность и удержать ее в своих руках, если даже войны или наводнения затопят все установленные на их участках вехи? Ну, а что привело к расцвету сочинительства, ораторского искусства, как не амбиции, неугасимая страсть к обогащению, к деньгам? И совокупность наук — это лишь результат человеческой алчности, гордыни и любопытства. А их конечная цель — погрузить человека в еще большую праздность, обжорство, роскошь, сладострастие.
— Ах, можно, конечно, согласиться с вами, признать, что некоторые науки возникли из ложных источников. Но вы ведь не пойдете дальше, не станете утверждать, что изобретение печатного станка стало для всех нас карой, бичом? Несомненно, книги — это настоящий дар человечеству… Боже, я и представить себе не могу, что бы мы делали без книг!
— Совершенно верно! — резко, с презрительной ноткой в голосе возражал Руссо. — Что бы мы делали без книг! Какой необходимостью они стали для нас! Ну и каков результат? Повсюду люди жадно поглощают книги, стараясь отыскать в мнении других ключ к своему счастью, пониманию окружающего, но они ведь должны искать все эти дары в себе. Только там, и нигде больше.
— Вы весьма убедительны, месье Руссо. Но, несомненно, существует один аспект современной науки, который вы не в силах осушить. Искусство изящного, в котором французы наверняка затмили другие народы. Неужели вам хочется лишить нас хороших манер, нашей вежливости, очарования нашего французского таланта, парижского театра, нашей оперы, нашей живописи, нашей архитектуры?
— Вот это хуже всего! — восклицал Руссо. — Все это лишь притворство! Мы живем в такой век, когда человек не осмеливается быть самим собой. Все мы, кем бы на самом деле ни были: трусами, калеками, больными, подстрекаемыми, слабаками, тряпками, лгунами, — теперь разговариваем на одном и том же языке, из каждого рта вылетают формулировки, свидетельствующие о нашем хорошем воспитании. Все мы носим одни одежды, все соблюдаем правила приличия, хорошего тона. Как отличались бы мы один от другого, если бы оставались нагими, если бы выражали свои собственные мысли, свои истинные чувства и обменивались продуктами труда собственных рук с такими же, как мы, тружениками. Какими бы разными мы были, какими неповторимыми, индивидуальными! Может, грубыми, невыносимыми, но, во всяком случае, здоровыми и честными, без всякого притворства, обмана и лицемерия.
Сколько же вопросов ему задавали! Должны ли мы закрыть школы, академии и прочие образовательные учреждения? Неужели вы на самом деле считаете, что нужно сжечь библиотеки? Неужели вы на самом деле полагаете, что мир чувствовал бы себя гораздо лучше без Кеплера[71], Галилея[72], Ньютона?
Руссо не выносил всю эту трескотню. Руссо не любил ее, но она ему все-таки не была безразлична, ведь эта трескотня свидетельствовала о его признании. Наконец-то. Но его недостатки оставались при нем: Руссо так и не научился быстро подбирать нужные аргументы. Ему не хватало ораторских навыков, живости, яркости языка. Он часто подолгу искал нужное слово. Короче говоря, Руссо был тугодумом.
Собеседники часто ставили его в тупик. Тогда он резко отворачивался, советуя прочесть его эссе. Если не понравится, можно разорвать его в клочья. И пусть его оставят в покое!
Но чем больше он проявлял свою дерзость и неумение себя вести в этом городе подчеркнутой воспитанности, тем большим центром притяжения становился. Весь Париж был не прочь принять этого «дурно воспитанного грубияна», и парижане любовно прозвали его: «Наш Жан-Жак», «наш добрый Жан-Жак», ибо у всех постоянно скучавших богатых людей вдруг появилось такое захватывающее развлечение — выслушивать в свой адрес брань Жан-Жака. Вокруг него собирались толпы людей, и если им не удавалось поговорить с ним, на него просто молча глазели, словно он только что свалился с Луны. Все были сильно взволнованы неожиданными тезисами Руссо. Все, но только не Вольтер…
Жан-Жак, естественно, сразу послал ему экземпляр своей брошюры. Так поступил и Дидро со своим памфлетом «Письмо о слепоте». Но, в отличие от Дидро, Руссо не получил ответа от Вольтера. Даже уведомления о получении. И само собой, никакого приглашения разделить трапезу с мудрецами. Кстати, сейчас Вольтер вращался в кругу знаменитых интеллектуалов, которых Фридрих собрал у себя в Потсдаме.
Ни слова. Ни единого слова от Вольтера… А может, Вольтер до сих пор обдумывает большое, аргументированное послание? Несомненно, думал Руссо, это будет опровержение его теории. Ведь Вольтер всегда обожал науки и искусство. И все же разве не мог такой великий философ, как Вольтер, по достоинству оценить деградацию человека по сравнению с его примитивным благородством в далеком прошлом?
Пусть это будет опровержение, даже болезненное сдирание кожи с Руссо — он все равно придет от этого в восторг. Это стало бы предлогом, чтобы изменить свою нынешнюю позицию, которую с каждым днем становилось все труднее защищать. Он сам затратил столько лет на совершенствование в искусстве и в науках, а теперь отказался от всего этого.
Как будет чудесно, если Вольтер укажет ему, как поступить. Руссо был нужен ответ от «учителя». Все равно: похвала или упрек. Хотя бы слово, еще одно дуновение в сторону Жан-Жака из его склянки с духами.
Но увы, Вольтер молчал. Словно Руссо вовсе не было. Некоторое время спустя по Парижу начала ходить остроумная эпиграмма, которую приписывали Вольтеру. Эпиграмма стала популярной не без стараний «громогласной трубы» Вольтера Тьерио.
Прусский король спрашивает Вольтера:
— Вы читали эссе Руссо?
— Да, — ответил тот, — я читал его, сир. Весьма красноречивое эссе. Должен признать, что еще никогда красноречие так красноречиво себя не осуждало.
Это задевало, причем серьезно и глубоко. Если, конечно, автор — на самом деле Вольтер. Но ведь это могла быть и подделка. Эти ленивые хлыщи часто приписывали Вольтеру то, чего он никогда не говорил. Но все равно эта остроумная вещица сразу возымела действие на парижскую публику. Руссо чувствовал, что люди все больше размышляют о парадоксальном характере его позиции. Теперь при разговорах с ним некоторые многозначительно улыбались. Ему казалось, что он постоянно слышит смех Вольтера, долетающий до него из Пруссии. «Кто такой этот Жан-Жак Руссо, который использует печатный станок, чтобы напечатать свое эссе, осуждающее печатное дело?» — так, по слухам, написал Вольтер одному из своих парижских корреспондентов.