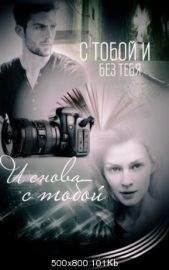Борис Алмазов - Охваченные членством
На ноги солдаты обували огромные растоптанные ботинки с заклепками, а дальше — обмотки — длинные полоски ткани. Они превращали ногу до колена в некое подобие ствола пальмы, с годовыми кольцами.
Зимой поверх гимнастерки надевался короткий стеганый ватник. Одежда, ставшая знаменитой в Европе. Но почему-то модельеры позабыли, что стеганый ватник — это, так сказать, подкладка, потому он и назывался телогрейка. Поверх нее надевалась шинель, особенного серого цвета, на крючках, со складкой и хлястиком на спине. Если этот хлястик расстегнуть, то шинель становилась широченной, как палатка. Солдаты ухитрялись ложиться на нее и ею же укрываться. Шинель под грудью, именно под грудью, а не на поясе, перетягивалась ремнем с одношпеньковой или двухшпеньковой « командирской» пряжкой. Бляхи с якорем были только у моряков, а со звездой появились позже и поначалу только у сержантов. И ремни сержантам делали из кожзаменителя.
На стриженой голове солдат летом носил пилотку —разляпистую, как раскисший пирожок ( поверх нее надевалась каска, в которой не было кожаного вкладыша ), а зимой— шапку-ушанку с серым искусственным мехом, бесформенную, как пельмень. Зимой же выдавали трехпалые рукавицы. Считалось, что указательный палец в этой рукавице выделен, так сказать, в отдельную фракцию, чтобы удобнее было стрелять.
Сразу после войны сроки службы оставались другими. Те, кто захватил последние месяцы войны, в пехоте отслужили в общей сложности семь лет, во флоте — девять. Так что встречались солдаты и с проседью на стриженых головах. Поучительно то, что сразу после капитуляции Германии первыми демобилизовывались солдаты старших возрастов, имевшие тяжелые ранения и контузии (поэтому на Белорусском вокзале из эшелона победителей в кинохронике выгружаются в основном старики), а также учителя и агрономы!
А как они пахли! Боже мой! Это самый добрый, самый главный запах моего детства! Русские солдаты пахли здоровым, крепким мужским потом, махоркой, хлебом и наваристыми щами с тушенкой.
Они умели все. Я не встречал никого надежнее и основательнее «дяди солдата».
Завидев широченную фигуру на тонких кривых ногах, в огромных ботинках, с соломиной штыка за правым плечом, даже маленькие дети переставали плакать и успокаивались. «Дядя солдат» защитит, не даст в обиду, спасет, накормит.
А «дядя солдат» всегда носил в бездонном кармане вторую ложку и, если рядом оказывался ребенок, никогда не ел один. Котелок — либо на двоих, либо солдат курил самокрутку и молча смотрел, как едят дети. А потом оттуда же, из широкой штанины, доставалась газетка, разворачивалась, и в ней оказывался кусочек колотого сахара с прилипшими махоринками. Сахар бережно обдувался и протягивался ребенку.
Я ни разу не видел, чтобы солдаты грызли сахар или клали его в чай! Ни разу! Сахар отдавался ребенку. Первому встречному. Любому. «Дитю».
— Дядя солдат, а ты как же?..
— Да я уж, так уж... Давай ешь! На здоровье! Расти большой, не будь лапшой...
Да святится имя Твое, Русский Солдат!
А о войне они либо вообще ничего не рассказывали, либо рассказывали смешное... Это теперь я понимаю, что смешное... до слез!
Я попробовал записать некоторые рассказы. Так, как слышал. Слово в слово. Потому что тех солдат больше нет... И мое поколение — последнее, помнящее их живыми и молодыми. Мы еще можем вспоминать, те же, кто за нами, будут «реконструировать». Если, конечно, это им будет еще интересно.
Скобарь с колом
Я — скобарь настоящий! Из Старой Руссы. И ничего в этой кличке обидного нет. В Псковской области болотное железо добывали в древности. И псковичи ковали всякий скобяной товар, который на вес золота шел! Вот во время монгольского ига специальные железные набеги были! Железо драть! Гвозди там, петли дверные, скобы. Вот что такое скобарь! Кузнец, значит, оружейник...
Ну и драчуны, конечно, скобари-то. Земля — пограничная, потому и дрались свирепо. Не случайно говорят: скобарь с колом — страшнее танка.
Перед войной сильно на улицах дрались, видать, войну чувствовали. Но я-то домашний был. Учился хорошо. Как раз десятый класс закончил, выпускные сдал, и... война. Отец сразу, в первый день пошел. Сразу, как по радио передали, что война, собрался. Посидели, чаю попили, и пошел... Мать даже и не плакала еще. Ничего еще сообразить не успела. А дня через три и я наладился. Добровольцем. Собрал мешок.
— Ну, — говорю,— мам... Я пошел.
— Кудай-то?
Она как раз стирала. Они, бывало, как с отцом поругаются, так она сразу — стирать... И тут три дня уж как в доме стирка.
Я говорю:
— Как куда? На войну, знамо! — (Ох, и дурак был!)
— Я те дам на войну! — А в руках у нее не то отцовские кальсоны, не то простыня какая-то. Откуда у нас белья столько образовалось? Может, она по второму разу все стирала, по третьему?.. И она мне этой простыней или кальсонами по роже, по спине, по роже, по спине: «Я те дам войну! Я те дам... Вояка нашелся!» Я от нее — на чердак и лестницу за собою поднял. Она села на крылечко и плачет. И мне ее так жалко сделалось. Сижу, думаю: «Ну, не попаду на войну, и ладно. Лишь бы мать не плакала».
А через две недели, а может, и раньше, по радио, по нашему местному: «Враг у порога! Все мужское население — к оружию!» Испекла мне мать ватрушку. Как раз на весь мешок. Ну, бельишко собрала, закинула себе мешок на плечо, меня — за руку, повела в военкомат. Куда денешься? Враг у ворот.
Я-то, дурак, все руку вывернуть из ее ладони хотел, зазорно мне, что меня мать ведет за ручку. А она держит крепко! Не оторвать... Горячая рука такая, маленькая и горячая...
Пришли в военкомат, а там уже винтовки раздают, по две гранаты... и бегом за город. Хорошо еще — в другие ворота вывели, а то бы и мать за мною следом побежала. И сразу в бой!
Ну, мы-то ладно — дураки! Так и немцы тоже! Мы — в штыки, и они в штыки! «Грудью встретим врага!». Они с грузовиков прыгают и тоже на нас. И в долинке такой как начали драться!
А я-то, солдат называется! Стрелять из винтовки не умел, гранаты взводить, бросать не умел и, пока бежали, штык потерял!
А тут такая мясорубка! Я как под наркозом! Хожу как малахольный. Ну вот как во сне, натурально. Куски какие-то помню. Фрагменты. Тут один сидит — из головы мозги текут. Который по земле ползет — из него кишки волочатся... Спасибо, дед один, красногвардеец бывший, в кожане с маузером, как мне по роже даст. «Ты, — говорит, — что, в театре? » Ну я маленько опомнился. Да и немцы отошли, и мы. С горушки жители бегут — своих искать, раненых тащат. И мама моя тоже бежит. Я — «мама, мама», а она как безумная сделалась. Насилу сообразила, что это я...
Ну, нас построили, в казарму какую-то привели, переодели в форму. А по военному делу — ничего. Я, правда, штык нашел, не свой, а какой-то... Ну, нацепил—снял, научился штык примыкать... Хожу это, как придурок, по казарме со штыком. И сразу на глаза командиру попадаюсь. Он меня и еще одного, такого же дурака, посылает к мосту на пост. Ну, мы идем.
Я этому Кирюхе говорю:
— Слушай, а вот интересно, вот выстрелим мы, а дальше что? Как новый-то патрон вставлять?
Он тоже не знает! В общем, кинофильм «Два бойца»!
Поперли на мост! Я вот сейчас думаю, ну как же мы тогда не соображали, что охранять-то мост нужно не на мосту! А около моста. Замаскировавшись. Нет, брат, стоим на мосту, в воду поплевываем. Нас не то что из поганого ружья, нас из рогатки перестрелять можно было. Но, говорят, дураков бог бережет! Про всех не знаю, а меня берег!
Бегут бабы с колами, с вилами, волокут немца-парашютиста. Откуда он взялся? Я про устав-то и слыхом не слыхивал! Чего делать — мне неизвестно! Бабы кричат: веди его в штаб! Ну, я петушком, петушком:
— Ах, ты, — говорю, — гад! — И затвор передернул. У меня патрон-то и выскочил. Нестреляный! А Кирюхе показываю:
— Смекай!
Тот обрадовался, давай затвором клацать, все патроны выкинул. Новую обойму забил! Довольный, что перезаряжать научился. Немец — здоровенный такой, он бы нас одной левой, но тут бабы кругом — порвут на части! Стоит, глазами лупает, ресницы, как у свиньи, белые. И сам белый как бумага стал — думает, небось, что мы его расстреливать собрались. Примериваемся как бы, значит... Ему и невдомек, что мы вояки-то никакие! Схватил бы у нас винтовку и пошел, чего бы ему сделали? Два сопляка да бабы.
Я-то через три годочка в такой же ситуевине оказался, так я этих гитлерюгендов да фольксштурм дне улицы с одним колом гнал. Тоже решили, что меня в плен взяли! Это еще неизвестно, кто кого маял! И автоматы у них поотнимал! Ну, так это уж м конце войны! Тогда-то меня можно только артобстрелом или бомбежкой добыть, а так-то я бы от всего увернулся! Всю войну на передовой, четыре раза раненый! Я на пулемете мог любую мелодию выстукать, как на барабане. Трах-так-тра-та-тах! Хоть пляши! А они на меня автоматы да винтовки наставили! «Хенде хох!» Я те наставлю!.. Ну, да это уж когда! Это я уж ротой командовал! Мне уж двадцать лет было!