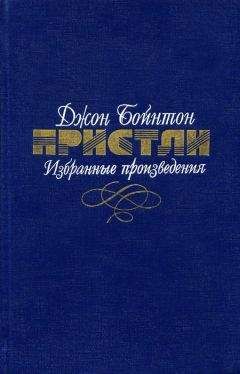Иван Цанкар - Словенская новелла XX века в переводах Майи Рыжовой
Войдя к нам в ворота, вереница черных крапин останавливалась посреди двора и завороженно смотрела на дом. Без колебаний дети бросались к входным дверям только тогда, когда удирали, едва переводя дух, от погони своих домочадцев. Обычно же они вели себя так, будто стесняются и не смеют войти. Лица ребятишек горели, хотя сами они зябли в плохонькой, а порой и нелепой одежонке. На некоторых из них были поношенные отцовские пиджаки — длинные, чуть не волочившиеся по земле, у парнишек на руках красовались хозяйкины перчатки, а девочки путались в отцовских штанах. Как правило, дети приходили с непокрытой головой, но иногда на ком-нибудь из них была нахлобучена огромная меховая шапка или старая шляпа, сползавшая глубоко на уши, так что из-под нее едва выглядывала розовая рожица. Еще хуже дело обстояло с обувью. Кое-кто был обут в стоптанные сапоги или в отцовские деревянные башмаки, другие — в драные онучи, некоторые же были совсем босые — обычно самые маленькие крапинки прибегали к нам босиком и по снегу. Ноги у них были красные, помороженные, но, вместо того чтобы плакать от холода, они радостно улыбались.
Соседские ребятишки молча стояли во дворе до тех пор, пока кто-нибудь из наших не впускал их в дом. Обычно это делала мать или бабушка. Та из них, которая раньше замечала появившуюся вереницу, выходила за дверь, брала на руки самого маленького, целовала его в озябшие губки и с улыбкой обращалась к остальным, шеренгой стоявшим перед нею:
— Ну, мелкота, пожалуйте в дом, коли пришли.
Она входила в сени с малышом на руках, а за нею следовали и все остальные.
Мы жили в просторной черной избе, где зимой всегда сохранялось приятное тепло — тут варилась пища для всей семьи и корм для свиней. Стряпали здесь и летом, но тогда в избе становилось нестерпимо жарко. Это была очень большая комната с деревянными, столетней давности стенами, покрытыми толстым слоем блестящей, затверделой сажи. На стенах виднелись потеки застывшей смолы. Потолок тоже совсем почернел от копоти. В эту громадную комнату белый день заглядывал сквозь четыре маленьких решетчатых окошечка, поэтому и в полдень здесь стоял полумрак. Один из углов занимала большая черная печь, в которой могло уместиться сразу двадцать караваев хлеба. Перед печью был огромный четырехугольный низкий шесток, где на открытом очаге день и ночь теплился огонь. Над шестком нависал полукруглый свод, называемый челом. Все почернело и закоптилось. У той же стены, что и печь, только в другом углу был вмурован котел, в котором варился корм для свиней. Под потолком от очага к противоположной стене тянулись две закопченные жерди, на которых сушили дрова и зимой коптили свинину. Пол в избе был глиняный, утоптанный в течение столетий так, что стал тверже кирпича. В третьем углу стоял большой стол из явора, единственный светлый предмет. Позади стола вдоль двух стен тянулись длинные, широкие, но тоже закопченные скамейки. В четвертом углу стояла низкая кровать, где спала бабушка, а рядом, у стены, — совершенно почерневший шкаф. Этот шкаф также был собственностью нашей бабушки. Весь угол в какой-то мере принадлежал ей, тут она все зимнее время проводила за прялкой.
В комнате обычно было полно дыму, и непривычный человек не смог бы в ней долго выдержать. Только в очень хорошую погоду дым вытягивало в широкую трубу над очагом. Мы привыкли к дыму, и он не мешал нам. Бабушка пряла спокойно даже тогда, когда прялка совсем скрывалась в дыму.
Черная изба была такой же, как и в незапамятные времена, столетия назад. Исчезли только ясли да корыта для свиней — единственные изменения по сравнению с далеким прошлым, когда скотина, вернувшись с пастбища, входила в избу, где в яслях ее ожидал кусок соли и где потом доили коров. Свиньям тоже давали корм в стоявших у стен корытах. В те времена люди жили вместе с животными.
У соседей изба тоже топилась по-черному, только была гораздо меньше нашей, — соседские дети, как и мы, привыкли к дыму и копоти. Наше жилье отличалось от соседского лишь тем, что у них бывало куда холоднее — им часто не хватало дров.
Вот что происходило, когда к нам являлись соседские ребятишки.
Если мать сама не выходила к детям во двор, она обычно встречала их в комнате. Усевшись на низкий стул у стены, она брала младшего, трехлетнего Нацея, на колени и начинала расспросы. Старшие, поглядывая по сторонам, стояли посреди комнаты. Так постепенно мать узнавала обо всем, что происходило у соседей.
— Что, новая мама злая?
— Злая! — отвечали все пятеро в один голос.
— Она вас бьет? — расспрашивала мать дальше.
— Бьет! — снова звучали пять голосов.
— А хлеба она вам дает? — спрашивала мать, немного подумав.
— Не дает хлеба, — отвечали ребята хором. При этом они жадно глотали слюну.
— Не дает хлеба, потому что его нет, — задумчиво говорила мать, словно заступаясь за соседку. Дело в том, что в последнее время хозяйство соседей вела какая-то родственница покойной матери детей.
— А отец и мама спят вместе в одной постели, — говорила тогда пятилетняя Наника.
— Ах, вот как! — отвечала мать, будто это ее совсем не занимало, хотя именно это она и хотела узнать.
Новость так взволновала наших, что даже бабушка на некоторое время перестала прясть. Иногда мать спрашивала:
— А что делает отец?
— Отец возит лес с гор, — отвечали дети.
— Отец возит лес с гор, чтобы заработать денег и купить вам хлеба, — объясняла мать.
Сосед слыл трудолюбивым человеком. У него была захудалая лошаденка, и он работал в извозе, пока она не сдохла.
— Отец возит лес с гор, чтобы купить нам хлеба, — повторяли дети, и глазенки их блестели.
Иногда мать узнавала таким способом кое-что и похуже. Как-то старший из детей, по имени Йозей, сообщил матери будто бог весть какую радостную новость:
— А ночью наша корова выкинула.
Мать тогда промолчала.
Наника однажды сказала:
— А мы сегодня мясо ели, потому что овца околела.
И на этот раз мать промолчала, но на глаза ее навернулись слезы.
Пока мать расспрашивала детей, они тихо стояли посреди комнаты. Узнав все, что происходило у соседей, мать вставала, подходила к столу, вынимала большую краюху серого хлеба и отрезала по куску каждому ребенку. При этом она не спускала с рук младшего, Нацея. Дети один за другим подходили к матери. Прежде чем взять хлеб, каждый просительно складывал ладошки, заглядывал ей в глаза и говорил:
— Дайте, пожалуйста!
Только тогда ребенок получал хлеб и затем благодарил:
— Воздай вам Бог!
Таков был обычай. Маленький Нацей еще не умел как следует говорить; сначала он произносил: «Дайте, позалуста!», а потом, держа хлеб в руках: «Воздавамбо!»
Это получалось у него так ласково, что мать улыбалась сквозь слезы.
Хлеб был самым главным гостинцем, который дети получали у нас. Но иной раз им перепадало и кое-что другое — остатки обеда или что-либо еще. Когда все было съедено дочиста, детишки так оживлялись, что их нельзя было узнать. Если до еды они вели себя тихо, будто кроткие ягнята, то сейчас они так носились по комнате, что все ходуном ходило. Это лучше всяких слов говорило о том, какими голодными они были раньше.
Соседских ребят никогда не тянуло домой. Нам самим приходилось отправлять их назад. Обычно они засиживались до вечера. Но, случалось, им и тогда не хотелось уходить. Старшие недовольно хмурились, а маленькие начинали плакать.
— Нас дома мама побьет, — говорили они.
Тогда мать брала на руки Нацея и подзывала остальных:
— Пойдемте, я вас отведу.
Этого не надо было повторять дважды. Мать, проводив их до дома, умела уговорить соседей не бить детей. Поэтому ребятишки нашу мать очень любили и звали ее «тетя». Мы, родные ее дети, иногда ревновали, считая, что она любит их чуть ли не больше, чем нас. Как-то мы прямо высказали ей это. Она опечалилась и, помолчав, сказала:
— Соседские дети — сиротки, у них нет матери.
Это было оправданием ее любви и заботы.
Перед уходом мать всегда давала детям еще что-нибудь. Если ничего не было, годился и простой домашний хлеб, но обычно наступал черед каких-нибудь фруктов, сухих или моченых, а то и чего повкуснее. Если ребятишки приходили раздетыми и разутыми, она как могла одевала их в старые обноски, хоть с одеждой у нас самих дело обстояло неважно.
Иногда, оделив каждого куском хлеба, она отрезала еще один, самый большой кусок и отдавала его старшему со словами:
— На, держи, это для вашей матери, чтобы не сердилась.
Затем отрезала ломоть чуть поменьше и, отдавая его Нанике, говорила:
— А это для вашей беззубой бабушки.
У соседей тоже была бабушка, еще более старая, чем наша, почти не встававшая с кучи соломы.
Когда доходило дело до орехов или сухих фруктов, мать набивала ими все карманы детей, какие у них только были. Старшие при этом обычно выгадывали, ведь карманы их были куда больше. Часто на них бывали надеты отцовские пиджаки, у которых карманы казались совсем бездонными.