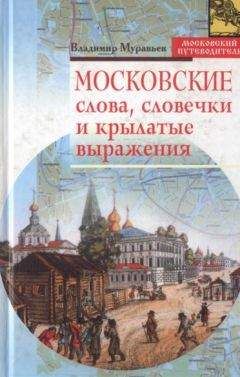Евгений Гропянов - В Камчатку
— Эге-ге-гей! — крикнул что есть мочи Атласов.
Чубук, вздрогнув, бросился с площадки в обрыв и пропал.
— Ух! — выдохнул восхищенно Атласов. — Ну и силен.
— На рога упал, — сказал уважительно проводник. — Молодой. Далеко теперь.
Долина реки Камчатки встретила казаков благодатным теплом. Отгороженная от северных холодных ветров Срединным хребтом, долина напомнила Атласову о родных местах.
Проводник, одаренный ножом, счастливый, вернулся в свой родной острог. Уходя, он сказал:
— Остерегайтесь еловских. С ними даже мы хотим жить в мире.
Река Еловка служила притоком Камчатки и обойти ее можно было, лишь свернув резко к югу. Атласов поначалу решил не будоражить еловские острожки. Однако страсть к новому, неизведанному, страсть, толкавшая его всю жизнь в походы, затем рассуждение: «Раз я пришел сюда, должен все увидеть сам», изменили его планы.
С началом комарья, в середине июня, отряд казаков раскинул лагерь в устье реки Канучь, которая впадала в Камчатку и находилась выше, верстах в тридцати от устья Еловки.
— Красива, проклятущая, — сказал Атласов, хлопая себя по шее: комарье житья никому не давало. — Ишь как манит, словно девка притягивает. Рванись к ней, а она ноги скрутит.
— И будет тебе могилка, да с холодочком, — подхватил Лука Морозко.
Засмеялись казаки, заговорили наперебой. И всяк, уставившись в гладкие воды реки Канучь, видел не только отражение свое, а как бы сам себя насквозь просматривал и жизнь прожитую как на ладони представлял.
Не так и широка Канучь — пятнадцать сажен, а, говорят, строптива, своевольна, дерзка.
…Было время, когда красавица Канучь жила с Греничем у озерка в согласии и большой любви. Хотя и стар был Гренич, опытный воин и смелый охотник, но разве любви запретишь объединить два пылких сердца! Ничто не нарушало их счастья. Отправилась как-то Канучь шикшу собирать. Нашла полянку, берестяную корзиночку подле себя поставила, за ягодой потянулась. Не успела кочку оборвать, как услышала — сзади фыркает кто-то. Вскрикнуть не успела — навалился на нее медведь и мять стал. Сколько ни отбивалась, устала. Уж и не чаяла высвободиться, как медведь вдруг обмяк. Сильные руки вытащили ее из-под властителя тундры. Открыла глаза Канучь, а перед ней Гренич стоит, слова вымолвить не может.
Бросилась ему Канучь на грудь. Но оттолкнул ее Гренич.
— Ты изменила мне, — сказал он сурово, — с этого дня сердце мое не будет знать тебя. Ты больше не выйдешь из юрты.
Отшатнулась Канучь и молча вернулась в юрту.
Проснулся ночью Гренич, нет жены. Искать бросился. Пуста тундра. Под утро заметил, что из озерка потекла река. Грустно и плавно было ее течение, но жгучи воды. Затосковал Гренич без молодой жены. И дня не прошло, как силы оставили его. Тогда ударился он оземь и превратился тоже в реку. С тех пор и текут из одного озерка река Канучь и река Гренич почти рядом, впадая в великую реку — Камчатку.
От кого мог услышать легенду Енисейский? Уж не проводник-медвежатник ли принес ее с собой? Казаки и не спрашивали, взгрустнули и тут же забыли и Канучь и Гренича. Шалаши манили свежей травой, хотелось спать.
Наутро обследовали устье реки Канучь.
Высоки сочные травы по ее берегам, густ гибкий ивняк. Отбейся в сторону от тропы — потеряешься.
Атласов расковырял пальцами землю, положил ее на ладонь и понюхал. Переплетенная тонкими белыми корнями, она разнеженно лежала на его ладони и источала тот животворный запах, который издревле заставлял человека браться за соху.
«Добрая земля, — думал Атласов, — родить будет густо».
Луке сказал:
— Камчатку за Россией крепко держать надо. Ты только глянь — чернозем настоящий, — он растер пальцами землю. — Да этим ли только славна Камчатка? Мы вон сколько отшагали, а конца и края ей нет. Зверье на каждом шагу. Ты знаешь, ладью б заложить, за море-океан наведаться… Да не нам, видать, суждено морские дороги торить. Сегодня, Лука, вели казакам крест тесать, да знатнее. Чтоб все видели и знали, что Камчатка приведена под Российскую державу!
Весь день, сменяя друг друга, казаки обтесывали толстые березы, и к вечеру семиконечный крест был готов. Хотели тут же водрузить на холме, месте, видном с реки Камчатки, но Атласов подозвал Енисейского.
— Иван, возьми нож и накали в костре. Надпись надо вырезать, чтоб всем, пришедшим в эту землю, было ясно, что земля Камчатская за Россией закреплена навечно.
И пока Енисейский калил нож, Атласов всем казакам наказал, чтоб каждый, куда б его ни забрасывала ноля господня, помнил до гробовой доски и детям, и внукам, и всем людям внушал, что Камчатка навеки присоединена к России.
Страстное слово Атласова вызвало ликование. Закричали: «Ура атаману!» Хотели — на руки и пронести с почетом, да подскочил Енисейский — нож готов. Властным жестом Атласов потребовал: тихо!
— Мы в землице Камчатской впервой, посему на христианском кресте начертать слова закрепительные, чтоб в веках наши деяния помнили, на сей крест молились и Камчатскую землицу оберегали, не щадя живота своего… Пятьдесят пять казаков испили воды из реки Канучь. Много еще горных рек пред нами будет… А сейчас помянем товарищей наших, что головы сложили от Кецайкиных стрел… Да не оставит нас господь, да охранит он нас и вернет к очагу нашему в здравии и силе… Пиши, грамотей Иван Енисейский.
От прикосновения раскаленного ножа к белому с испариной кресту ударил в нос сладковатый дымок. А так как грели сразу несколько ножей, то писалось быстро.
Крякнули, оторвали крест от земли и поставили в глубокую яму, чтоб, но дай господь, никто не осквернил святыню.
«7205 году июня 13 поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов с товарыщи 55 человек».
Видная надпись, слепой — да узрит.
— Стоять тебе вечно, — похлопал по кресту Лука Морозко.
XV
Степан Анкудинов открыл глаза и, стараясь не потревожить спящую рядом Имиллю, тихо выскользнул из-под шкуры. Торбаса висели над костром. Они пахли дымом и сохраняли домашнее тепло. Степан снял их и натянул на ноги. Солнце всплывало, когда Степан, заложив руки за голову, потягивался, шумно вдыхая утренний воздух. Туман путался в кустарниках, деревьях, жался к траве.
«Холодит по утрам, — подумал Степан. — В Сибирь-матушке разгуляй-лето, а тут и зелень холодная. Ну, ничего, к полудню разжарится-раздобрится солнышко».
Он опустился на колени, разгреб траву и приложил к земле ладонь.
— Отогрелась, язви ее, — довольно хмыкнул Степан. — Только и пахать. — Не отрывая ладонь, застыл, будто прислушивался к земле. — Дышит, — прошептал он. — Дышит, родименькая.
Вздрогнул от прикосновения, поднял голову: над ним Имиллю. Схватил ее за руки. Ойкнула Имиллю, опустилась рядом с ним на колени. А Степан обхватил ее голову руками, посмотрел в глаза и только сказал:
— Любонька.
Солнце ударило по вершинам деревьев.
— Эх, вспахать бы землицу, — вздохнул Степан. — Уродит, чего ей не родить, коль дышит.
Имиллю, не понимая Степановых слов, поджала губы: ей почудилось, что за словами Анкудина кроется разлука. Почему так тоскливо говорит Степан? Непонятно ей. Значит, скучает Степан, а чем она его может развлечь, маленькая черноглазая женщина, руки которой в постоянной работе: содержать свою юрту без подмоги других женщин трудно. Она сильно устает под вечер, к тому же стала кружиться голова и тело потеряло привычную легкость.
…Анкудинов решил бежать с Имиллю после слов Потапа Серюкова, что, мол, незамужняя девка должна стать полюбовницей Луки. К удивлению всех, Лука отказался, сославшись на годы. Тогда Серюков намекнул, что коль так, почему бы ему, Серюкову, и не забрать Имиллю себе. Ждали, что скажет Лука. Тот молчал. А Имиллю от Анкудинова ни на шаг. «Противу старшинства гнешь. Смотри, не сломись», — хмыкнул Серюков. «Опомнись, Потап, — улыбаясь развел руками Анкудинов. — Да кто посмеет?» — «А ты не скалься… Вижу сам не против». — «Не надорви пупок, Потап», — все так же улыбаясь, ответил Анкудинов.
И потом, чем бы Анкудинов ни занимался: увязывал тюки, подправлял нарты, точил топор, — он чувствовал на себе тяжелый взгляд Потапа Серюкова.
Ночью Анкудинов вслушивался в дыхание казаков, боялся ворочаться, знал: Серюков спит на один глаз. Все же он выждал, когда Серюков всхрапнул, и приподнялся. Ему показалось, что Лука смотрит на него. Замер. И впрямь показалось. С осторожностью подтянул заплечный мешок.
Имиллю пряталась за лагерем в уговорном месте.
Они выбрали путь к югу.
Они боялись погони, поэтому делали только кратковременные остановки. Имиллю сосала сушеную рыбу и заедала снегом. Степан ломал на кусочки единственный сухарь и клал под язык. Местами наст истончал, они проваливались и барахтались в снегу. Силы убывали. К вечеру поняли — Лука придержал погоню. «Да будешь жить ты вечно, Лука», — шептал Степан, засыпая под корневищем громадного тополя. Коричневым доверчивым клубочком пригрелась на груди Степана счастливая Имиллю.