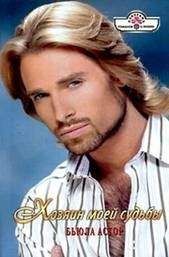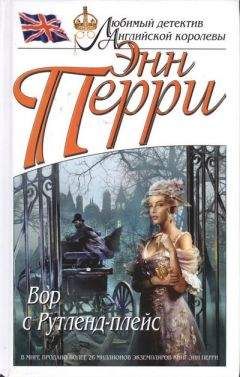Абель Поссе - Путешествие в Агарту
«Есть несколько упоминаний о местности в пустыне Гоби, где расположен огромный подземный город. Это была тайна, передаваемая от отцов к детям, и всякий, кто выдаст ее, должен был подвергнуться каре, сопоставимой по тяжести с подобным предательством».
«Никогда не ходите по проторенным дорогам».
Гурджиев лжет или же развлекается, намеренно все запутывая. Символы вырастают из действительности, а действительность тонет в символах. Видимое и умозрительное переплетаются.
Судя по всему, самая достоверная часть его рассказа заканчивается на описании некоей области в Тибете, о расположении которой он едва упоминает.[71]
Но главное, что в какой-то им самим не обозначенный момент Гурджиеву удалось преодолеть невидимую преграду. И тогда время в его рассказе сменяется отсутствием времени, а топография – утопией. Здесь он становится особенно многословным, и кажется, будто слова поднимаются над строками «Бревиария», словно желтый песок пустыни, затуманивающий всякое правдоподобие.
Я пью чай в одиночестве, передо мной стоит лампа и разложены странные карты. Я охвачен радостным волнением, подобным тому, что чувствует ученый или путешественник-первооткрыватель. За этими порой символическими или полубезумными речами таится нечто, настолько меня увлекающее, что часы летят с невероятной скоростью. Лишь изредка из храмов доносится звон колокольчиков, бой барабанов или гудение деревянных труб, с помощью которых монахи сзывают друг друга на свои ритуалы.
Вслед за записками Гурджиева я постарался прояснить и свести воедино тексты членов Общества Туле. Фон Зеботтендорф не оставил описаний, были только косвенные свидетельства, в том числе свидетельства профессора Хаусхофера и тех, кому довелось общаться с ним в его редкие появления. Известно, что он был крепкого сложения, невысокий. Происходил он из низшего сословия, в молодости был железнодорожным рабочим. Настоящее его имя было Рудольф Глауер. Очень рано в нем проснулась тяга к приключениям, и он принялся путешествовать по самым невероятным странам. Был золотоискателем. В 1900 году обосновался в Турции и завязал дружбу с бароном фон Зеботтендорфом, знаменитым востоковедом, который усыновил его, передал свой титул и послал учиться тайному знанию у друзов, суфиев и дервишей.[72] Вернулся он в Германию при больших деньгах и наделенный «необычными способностями», по словам Хаусхофера. Он был одним из основателей мюнхенского Общества Туле, стоявшего у истоков нашего движения, национал-социализма.
В 1919 году они вместе с Дитрихом Экартом, тоже членом Общества Туле, совершили чрезвычайно важное путешествие. В Аненэрбе о нем принято говорить как о «магическом путешествии». В самый разгар революции они добрались до полной опасностей Москвы, откуда с тысячей приключений доехали до Иркутска. Их могли расстрелять и красные, и белые: лихорадка насилия захватила тогда всех. Они спаслись благодаря английским фунтам. В конце концов они выбрались из районов боевых действий и организовали экспедицию для перехода границы. В Монголию пробирались по ущельям Цаган и Селенги.[73] Перенеся все возможные невзгоды, какие выпадают на долю путешественников в тяжелые, неспокойные времена, они добрались до монастырей, где, судя по всему, фон Зеботтендорф уже бывал раньше.
Экарт заразился тяжелой формой лихорадки, от которой ему уже не суждено было оправиться. Он проехал большой отрезок пути в бреду, привязанный к седлу своего мула, а потом погруженный на верблюда. Судя по всему, мучения его были ужасны. 16 июня 1919 года путешественников застигла песчаная буря, которая не стихала несколько дней. Было не видно ни зги. Порывы ветра достигали ста километров в час, палатки лагеря вырывало с корнем. Люди и животные рассеялись по пустыне. Фон Зеботтендорф привязал Экарта к колу, вбитому в землю.
С этого момента они потеряли всякую связь между собой. Экарт полагал, что за ним ухаживали дервиши. Он утверждал, что ему казалось, будто о нем все время кто-то заботится, но полностью утратил ясность сознания и чувство пространства и времени. «Бывал в каких-то местах, говорил с существами», и все.
Его память постепенно восстановилась в калькуттском госпитале, где он оказался два месяца спустя, в конце августа. При содействии немецкого консула его отправили на родину на голландском трансатлантическом судне «Штраат Малака», в нищенских условиях. Вот он уже в Мюнхене, и члены Общества Туле встречают измученного лихорадкой, совершенно разбитого товарища, отчаянно пытающегося, по выражению Карла Хаусхофера, «вновь овладеть логикой нашего языка».
Все поняли, что страдающий лихорадкой Экарт, который, казалось, забыл немецкий язык, был посланцем фон Зеботтендорфа. Именно тогда, исполнив свою миссию и, быть может, запустив в действие свой план, фон Зеботтендорф бесследно исчез, и все усилия разыскать его оказались тщетны. Пользуясь званием почетного консула Мексики в Стамбуле, он отправился в Мексику и Перу, чтобы заняться там некими исследованиями, причем так никогда и не выяснилось, какого рода.
Но вот что известно доподлинно, так это то, что в 1921 году избранником Общества Туле стал Адольф Гитлер. Именно ему будет передана власть, тайное учение Верховных Властителей. Экарту в сопровождении Розенберга и Гесса была поручена миссия чрезвычайной важности. «Гитлер уже дышит воздухом истинного рождения», – скажет он незадолго до того, как в последний раз попадет в больницу. В декабре 1923 года у него началась агония, причем никто из врачей в больнице так и не смог выяснить природу этой «азиатской лихорадки». Всю последнюю неделю жизни Экарта его навещал Гитлер. Фюрер сообщил ему нечто очень важное о том, как разрабатывается символика движения. Созданное доктором Кроном знамя включает в себя белый цвет национализма, красный цвет революционных социальных требований. Свастика, символ солнца и плодородия, станет знаком движения на том необходимом этапе, когда будет пылать очистительный огонь, символ воинов Шамбалы.[74]
За несколько минут до смерти Экарт передал Обществу Туле знаменитый «черный камень», наследие Основателей, и произнес слова, которые я впервые услышал в Аненэрбе: «Идите за Гитлером. Это он. Он исполнит танец. Я был только его пророком, его провозвестником. Я лишь передал ему музыку для танца. Он уже обладает силой Верховных Властителей».
Я допил чай и попытался сосредоточиться на записях и набросках. Но в истории Экарта есть нечто завораживающее, головокружительное, и это нечто все время ускользало от меня. В «Докладе Аненэрбе», который мне однажды удалось прочесть, были зафиксированы такие слова: «Ни один человек, переживший видения и откровения, подобные моим, не сможет терпеть эту жизнь. Все начинает казаться таким незначительным, эфемерным».
Что он имел в виду? Что ему приоткрылось? Почему задолго, очень задолго до своей смерти, со времен мюнхенского путча, он отошел от нацистского движения настолько, что вызвал недовольство Гитлера? И почему позже Фюрер с ним помирился и посвятил ему второй том «Майн кампф»?
У меня не оставалось сомнений: они сумели разбудить силу, источником которой является Врил,[75] космическо-духовная энергия огромной мощности. Так или иначе, я понял, что послан прежде всего за тем, чтобы восстановить связь с этой силой, как засылают разведчиков, чтобы украсть, выторговать или выпросить тайну ядерного синтеза.
Я попросил Белу сшить мне пару тех своеобразных балахонов или накидок, какие жители Тибета надевают во время путешествий. Так я смогу закрыть свою куртку и сапоги, слишком западные и потому бросающиеся в глаза. С огромной радостью, но как будто немного посмеиваясь над столь странной прихотью, Бела купила несколько метров шерстяной ткани под названием «намбу», которую здесь, кажется, используют для всего подряд. Заливаясь смехом, она сняла с меня мерки. Одно из одеяний она выкрасила в каменной лохани в традиционный фиолетовый цвет. Другое оставила некрашеным, беловато-сероватым. Цвет бедняцкой одежды, как у погонщиков. Эта моя просьба особенно насмешила ее. Она хохотала, широко открыв рот с двумя-тремя оставшимися зубами.
Видя, что я читаю и работаю с бумагами, она вбила себе в голову, будто я монах, скорее всего католический (они порой бывают в этих краях). Мне так и не удалось разубедить Белу.
Трудно как-то ограничить ее самостоятельность на кухне, которой она так дорожит. Мне пришлось незаметно выбросить кое-какую стряпню в канаву за домом, которая служит сточной ямой. Бела очень расстраивается, когда я говорю, чтобы она лишь развела огонь и испекла лепешку цампу. Когда она уходит, я кладу на угли кусок мяса ягненка, срезав и спрятав подальше жир, чтобы она не клала мне его в чай.