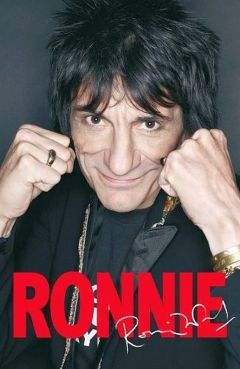Альфред Кох - Ящик водки. Том 3
«— Тут вон кузен Клинтона у меня сосед, а там дальше — Рейган, Форд. …Я был помощником Руцкого… Меня раньше знаешь как звали? Георгий Михайлович Мирошник», — открылся наконец он. Я отвел глаза в сторону с внезапной страшной грустью оттого, что из копеечных казенных денег вон у нас какие в сиротской России вырастают миллионеры… И еще вспомнились газетные заметки 92-го года, на страницах для криминала…
Мы встречались с Гариком иногда по вечерам и выпивали — то у него дома в Беверли-Хиллз, то в городе, то в приморском простеньком кафе. Он, например, любил мне назначить встречу в баре богатого отеля «Regency».
— Я тут жил несколько месяцев, пока не купил дом. Ну и привык… И точно, обслуга его знала вся. И смотрела на него с понятным обожанием, как цыганский хор на Никиту Михалкова в кинофильме «Жестокий романс»; сходство ситуаций было просто поразительное. Кстати, о кино: Гарик мне напомнил, что это именно тут снимали знаменитый и успешный по деньгам фильм «Pretty woman», где Гир и Роберте.
«…В Дубай я продал через фирму „Техника“ целый пароход противогазов. Сидел там в Джидде, этой вонючей помойке. Я там заработал тыщ 60—70. Потом была программа „Урожай-90“. „Исток“, АНТ, моя фирма „Формула-7“ и другие. Крестьянам тогда раздали талоны, и нам надо было талоны отоварить по твердым ценам. А потери государство обещало компенсировать квотами на нефть, которую нам разрешили продать на Западе. Поехал я в ГСВГ и говорю нашим генералам: при выводе войск все товары из военторга разворуют. Лучше продайте нам. Мы в России отдадим по талонам, на талоны возьмем нефть и т.д. Вам перечислим деньги рублями в Россию. Нет, говорят, в рублях не будем, только в марках. Хорошо! А в это время выходит указ Ельцина о запрещении расчета валютой между российскими организациями. Это был конец 1991 года. Я вынужден был платить рублями… По официальному курсу. Ну не мог же я в официальных расчетах с госструктурами использовать курс черного рынка!
— Ты небось заранее про все знал!
— Да даже если б и знал, где тут преступление? Где? Я же настаивал, я сам им предлагал рассчитаться в рублях! Но они не хотели. Потому что рубли пошли б сразу в Россию, в бюджет, и все. А валюта — в Германию… Военные обиделись, говорят — украл. Но что конкретно украл и у кого? Я взял у генералов государственный товар, честно заплатил за него столько, сколько сказало государство, в валюте этого же государства, привез товар в Россию и обменял на талоны «Урожая-90». Талонов у меня собралось полторы тонны. А кто мне за них что дал? Хоть тонну нефти, хоть баллон газа?»
Кох: Не, ну по понятиям-то Мирошник генералов швырнул… Но, с другой стороны, генералы бизнесом заниматься не должны — и по закону, и по понятиям. И то, что он их отделал, — это правильно.
— А как было у тебя с Мирошником?
— Руцкой звонил в Минфин, или нам, или еще кому— Нибудь. Звонил, значит, Руцкой и очень просил — сейчас Мирошник придет, он хороший парень, помогите решить вопрос… Прибегал Мирошник, и ему что— Нибудь подписывали. А потом этот же Руцкой тебя бы и спросил за коррупцию. Понимаешь? Кстати говоря, как только Руцкой начал людей за коррупцию х…ячить, он подумал, что люди будут еще резвей выполнять его поручения. Но ребята, как только он начал, сразу перестали подписывать. И все. Он еще сильней наезжает…
— Чего подписывали-то?
— Ну всякие там бумаги. Как тебе объяснить? Какие-то там помещения в аренду каким-то фирмам… В Госкомимуществе у нас на волю чиновников какие-то мелочи отдавались, и это все Руцкой греб под себя.
— Да?
— Да! Там муха не пролетала. Руцкой и еще Хасбулатов. Они дербанили по полной… Это была тактика, которую сначала не уловили. Я вот в августе 93-го пришел в правительство, когда там была уже такая переломная обстановка. А до этого с 91-го года правительство пыталось наладить отношения с Руцким и Хасбулатовым, и что-то у них получалось. Например, летом 92-го года Чубайсу удалось принять программу приватизации. Верховный Совет проголосовал «за». Но потом это все пошло не в коня корм.
— Как интересно!
— Что ты смеешься?
— Интересно! Такие подробности трогательные!
— Так, значит, осень 93-го. Они уже референдум просрали — Руцкой-то с Хасбулатовым. И поэтому неизбежно приближался путч. И когда стало уже совершенно ясно, что он будет, тогда Борис Николаич издал этот знаменитый указ, как он — № 1400? И распустил их. А они спровоцировали эти волнения, когда от Октябрьской площади огромная толпа пошла по Садовому кольцу, через Крымский мост, на Смоленскую площадь и вышла к мэрии и там ментов пи…лила, автоматы у них отняла, подожгла мэрию… Это 3-го как раз было. Ужасно! А я как раз жил там рядом, в гостинице управделами президента в Плотниковом переулке, — буквально за МИДом. И я вышел на Смоленскую площадь, а там толпа идет, машины переворачивает, магазины громит…
— То есть ты живьем посмотрел на революцию.
— О-о-о! Да, посмотрел. Там такой был Илья Константинов, он во главе шел.
— А сейчас где он?
— Не знаю. Мудак такой. И вот толпа прорвала оцепление и от мэрии на Белый дом пошла. У-ух! А потом Лужок туда прислал ментов, и они сомкнули это кольцо и уже не выпускали никого из Белого дома. И они еще раз ночью смели оцепление и вышли к Останкину. А та толпа, которая осталась за ограждением у Белого дома, поехала на грузовиках брать Останкино. А потом это все — штурм, стрельба, «Витязь» их разгонял… А мы с Иванычем — с Сашкой Казаковым — шли, значит, пешком с работы в мою гостиницу. Транспорт же не ходил никакой. И вот мы из Госкомимущества, с Варварки, идем пешком к МИДу. Нам нужно было Новый Арбат проходить, а там как раз стрельба, снайперы стреляли…
— И вы короткими перебежками…
— И мы короткими перебежками, пригнувшись, побежали. И потом переулками арбатскими вышли к гостинице. Это было в ночь с 3-го на 4-е. Часа два ночи.
Комментарий
Всегда, всю свою жизнь я хотел быть писателем. Это не так: «А вот буду я писателем». Нет… Это глубже. Это такое восприятие, что писательство и есть стоящее занятие для настоящего человека. Остальное — ерунда. Переделывать историю — пустое дело. Воевать? Наверное… Но как-то не удалось, а специально — не стремился…
Все говорят: у тебя получается, хороший слог, темперамент… Но я-то знаю. Ни-че-го. Стоит только от публицистики уйти в беллетристику, и на тебе — сюжет сыпется, герой не выдерживает заданного характера, композиция рыхлая… Кошмар! Настоящая литература не дана. Так, мемуаристика дешевая. А хочется быть писателем. Настоящим, как Лев Толстой! Черт его знает почему…
И вот был я свидетелем революции. Просто описать это в терминах «я шел, он сказал, этот выстрелил» — глупо, неорганично. Однако осенью 1993 года я был свидетелем русского бунта. Я его видел собственными глазами. Такая удача для русского писателя. Вон Пушкин через сорок с лишним лет ездил по пугачевским местам, собирал по крохам воспоминания… Глаз там выбитый, на жиле висит, осетров баграми ловят… Ножиками режут… Казачки… Любимое племя… А я — видел! Освирепевшие лица. Дикость. Ярость. Зависть, переварившаяся в погром.
Может, попробовать? Описать это по— Настоящему? С героями, сюжетом, с личной линией? Слабо?
«…В черном плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…» Неужели? Думаешь, получится?
Блок писал: «Слушайте музыку революции». Мудак. Слушайте, бл…ь, музыку революции. Хули ее слушать? Грязища, тупая ненависть, болтовня жидовская…
Счастье, молодость. Тридцать два года. Худой, энергичный. Все просто — наивность. Обожаю… Приехал в Москву. Делать приватизацию. Без меня — никак. А тут — бунт!
По Смоленской площади идут. Лица перекошены. Давно идут, уже пару часов. С Октябрьской. Где Ленин. Уже озлобились подходяще. Переворачивают автомобили — тогда сплошь «жигуленки». Поджигают. Громят витрины. Мелкие лавочники — первые жертвы. Всегда. Сами себя заводят. Кричат. Видеть их противно. Как будто случайно застал срущую девушку. Вся магия пропала. Ба, а это ведь народ!
Все, что дорого… Все милое, красивое, родное. Буржуазное. Мещанское. Вышитые наволочки. Шторы — портьеры гобеленовые. Слоники в ряд по росту. Свинина в котлетах. Старый комод. Это и есть — человеческое. На х… — пролетарское искусство. Ненавижу худых, истеричных баб. Дайте мне задницу. Большую задницу. Как у лавочника Ренуара.
Вот эту кустодиевскую красавицу спасал я 3 октября 93-го года. Я не хотел, чтобы блядские Лили Брик опять на сто лет захватили мой народ своими свингерскими замашками. Моя родная, задастая, кулацкая Родина, с теплыми пухлыми губами, с белозубой, красивой, умной улыбкой должна была победить. И победила. Мелкобуржуазный Лужок с мелкобуржуазным Коржаковым выиграли у дебила Руцкого. У Макаша, засранца. Жулье!
…Идет, дрожит от страха. Самому страшно. Держится за руку. Все теснее… Ясность: не бойся! Горло перегрызу! Не дам в обиду ни при каких обстоятельствах. Никогда. Можешь не сомневаться. Маяковский был пролетарским поэтом, а я буду — мещанским.