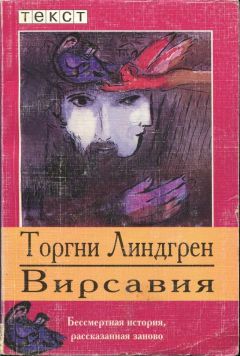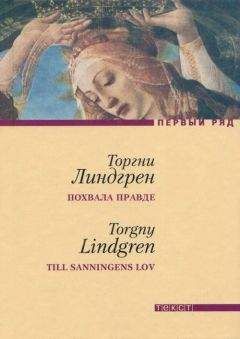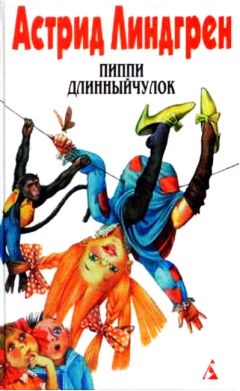Линдгрен Торгни - Шмелиный мед
В платяном шкафу она отыскала и пару варежек с красными кисточками.
Хадар тоже узнал кофту и пальто.
— Все повторяется, — сказал он, — ничего нельзя увидеть в последний раз, в конце видишь вокруг себя только напоминания, повторения, отражения и возвращения.
С тех пор она, как правило, ходила в этих вещах, вещах Минны, они как будто специальны были сшиты для переменчивой погоды и Эвреберга.
Возможно, все-таки самая жестокая зима уже миновала. Пусть иногда еще шел снег и плиту приходилось топить докрасна каждый вечер, но в полдень солнце показывалось целиком на час или два, и порой с крыши капал подтаявший снег, образуя узенькие блестящие ручейки на оконных стеклах.
Она упомянула о болях Хадара в разговоре с Улофом.
— Это хорошо, — сказал он. — Это хорошо. Потому как чем сильнее боли, тем ближе смерть, верно?
Да, ответила она. — Вероятно, так.
Что же до него самого, сказал Улоф, то у него одна главная болезнь, сердце, а у этой болезни есть свои второстепенные, к примеру, волдыри на груди и руках, кроме того, у него разные болячки, недуги и хвори, которые и упоминания-то недостойны и которые можно поставить в один ряд с чесоткой и щекоткой, они по большей части доставляют неприятности, но иногда даже наслаждение. Но боль — нет, само слово ему незнакомо и звучит отталкивающе.
Ничто, по его мнению, не указывало на то, что его, Улофа, конец близок. В некоторые дни ему даже кажется, что жизнь делается все приятнее и устойчивее. Ему больше не о чем волноваться, и он может без ограничений и отговорок направить все свои силы на то, чтобы просто жить. Каждый день приближает его победу над Хадаром. Перед сном он обычно скрещивает руки под подбородком и глубоко вздыхает — от чистой, незамутненной благодарности.
Что ты делаешь этой ложкой — спросила она.
В правой руке он сжимал чайную ложку, было такое впечатление, что он ее прятал.
— Это просто ложка, — сказал он — чайная ложка.
Ложка лежала у него в ладони, как деревянная кукла в ладони Хадара, серая, очевидно алюминиевая ложка с костяной желтой ручкой.
Улоф разглядывал ручейки на стекле. Пусть она не думает, сказал он, будто скоро придет весна и лето, только потому, что чуток подтаяло, эта оттепель — просто ложь и обман, это делается для того, чтобы обманом заставить людей выдержать; ежели бы не было иногда теплого ветерка или солнечного лучика, все погрузились бы в отчаяние и безнадежность.
Для некоторых, похоже, весна и лето составляют смысл жизни, больно думать о том, какую радость им, судя по всему, доставляет такой пустяк, как эти капли воды на оконном стекле.
Сам он остается равнодушным и хладнокровным к временам года. Ему удалось возвыситься над их смехотворными и само собой разумеющимися сменами. И вообще он теперь равнодушен ко всей чепухе и сумасбродствам в жизни. Это достоинство, но в том не его заслуга, просто он оказался наделен этим качеством.
Давай я помою ложку, — предложила она.
Но и мытье и чистка тоже пустая суета, которую он отбросил.
Небольшая грязь и жалкая зараза, которые могут скрываться в ложке, его не касаются. Изможденное, исхудалое тело, разумеется, в большей степени подвержено опасности, как, к примеру, тело Хадара, у истощенного человека нет защитной оболочки, он же, Улоф, живет в таком бренном теле, которое не дает проникнуть в него разным возбудителям болезней и искушениям.
К слову сказать, это, черт подери, его ложка, и пусть она. Катарина, держится от нее подальше! У него есть особая причина держать ее в руке.
И Катарина согласилась: чайная ложка, мытая или немытая, не имеет особенного значения.
Но потом он все-таки не удержался и показал ей, как хитро и умно он пользуется ложкой.
Он сделал это осторожно и основательно, то и дело поглядывая на нее с гордым и таинственным выражением.
Кончиками пальцев левой руки он пошарил по груди, нашел достаточно большой волдырь с созревшей головкой и ногтем указательного пальца бережно процарапал отверстие в коже. После чего ложкой вычерпал жидкость из лопнувшего пузыря — она была густоватая, но прозрачная, как вода.
И он поднес ложку к губам, высосал жидкость и облизал ложку.
Прямо мед, — сказал он.
Три волдыря — он проверил — дают полную ложку. Этот способ он изобрел сам. Когда лежишь на спине целыми днями, чего не случается.
В прошлом так поступали алхимики — лежали целыми днями на спине с распухающими головами. У него внутри прячутся созидательные силы, о которых никто, даже он сам, и не догадывался. Может в конце концов он сам станет производить нужные ему питательные вещества и сладость.
Не хочет ли она попробовать?
— Нет, спасибо, — отказалась она.
Кроме того, этот сок, или нектар, чисто природный, необработанный, он, наверное, полезнее всех продуктов, которые можно достать в магазине, не исключено, что благодаря ему он, Улоф, выздоровеет.
И волдыри заживают мгновенно, через пару часов их можно доить опять.
Он бы хотел напомнить ей то, что раньше сказал о болезни, она не такая однозначная и простая, как сперва думали. Конечно, эта болезнь в основном штука зловредная, и не только зловредная, но и болезненная, дьявольская, но у нее есть и свои хорошие стороны, своя плодовитость, свои привлекательные побочные действия и свой круговорот.
— Ты мне веришь?
Верить, пожалуй, не верю. Но понимаю, что это правда.
В окне показалась полоска неяркого солнечного света. Закончив помогать ему со всем тем, что нужно было делать ежедневно, Катарина сказала: Тебе нужен человек, который помогал бы тебе с этими делами.
У меня ведь есть ты, отозвался он.
Нет. Это просто потому, что у тебя никого нет.
И кто бы это мог быть? спросил он.
Сын, которого тебе родила Минна, ответила она. — Ларс.
— Никогда, — сказал он. — Он был не такой.
Да, сын был действительно не такой! Он был слишком значительный и видный, слишком широкоплечий и богато одаренный, чтобы нагружать его подобной работой! Его, Улофа, просто смех разбирает, когда он представляет себе, как сын опорожняет ведро или моет ему задницу! Сын, которому предстояло стать школьным учителем, или священником, или землемером, или тем, кто пишет книги о солнце и лягушках; его кожа должна была быть белой и тонкой, как газетная бумага! Нет, никогда!
Ты не называешь его по имени, — сказала она.
По имени?
Да, по имени.
А зачем ему называть имя, ежели это бесполезно? Ежели сын не может прибежать на его зов?
Зачем ему называть имя, которое ничего ни для кого не значит, зачем ему произносить его имя при ней, ежели она даже на миг не может представить себе, как выглядел мальчик, когда входил в кухню с пойманной им щукой, нет, не мальчик, а молодой мужчина с голубыми крап-чатами глазами и пробивающейся бородкой.
Что же до нее, Катарины, пусть называет это имя сколько ей вздумается, а с его губ оно никогда не слетит.
Но его звали Ларс?
— Да. Его звали Ларс.
В тот вечер или, может быть, вечером несколько недель спустя Хадар снова спросил, сидит ли она каждый день за столом и пишет ли в своем блокноте.
— По-моему, ты не пишешь, как должна, — сказал он. — По-моему, тебе туту меня чересчур хорошо. По-моему, ты человек того сорта, который просто проводит время зря.
— Я пишу.
— Этого я знать не могу, — сказал он. — Я вообще ничего не знаю. Чем ты занимаешься там, наверху. Я лежу здесь, ты лежишь там.
Тогда она принесла блокнот и прочитала страницу, которую написала накануне, ее грубый и хриплый голос усиливал сухость текста, она сидела на стуле в изножье дивана.
…которыми в наше время нельзя больше думать, слова, которые исчезли или, возможно, их позволительно рассматривать как памятники тех эпох, когда, по всей видимости, еще существовала очевидная связь между волей и действием, мыслительные фигуры, на которых на секунду задерживается лшиь чувство пиетета, бледно-серое, почтительное воспоминание. Но не послушание в первую очередь отличает Кристофера, понятию «послушание» вообще нет места в его мировоззрении. Нельзя говорить и о подчинении, он не подчиняется ни божественному порядку, ни священному призванию, им движет или вынуждает к действию не любовь и не доброта и даже не сочувствие к ближнему. Пытаться истолковать его деяния, или, вернее, одержимость, его самозабвенную одномерность в терминах этики или морали было бы пустой тратой времени.
Он существует вместо того, чтобы говорить.
Если бы он вдруг признался: «Я сдаюсь, я иду
— что бы мы подумали? Нет, ничего столь вздорного, стилистически невыдержанного и оскорбительного Кристофер, такой, каким он предстает в данном изложении, никогда бы не произнес. Дом в его случае немыслим; если бы у него был дом, он не был бы Кристофером, дом уничтожил бы его. Определенное направление, географически определяемая цель его странствований находится, в общем и целом, за пределами возможного, его и, ель должна быть туманной и крайне умозрительной, его предназначение должно неизбежно быть неосуществимым на практике.