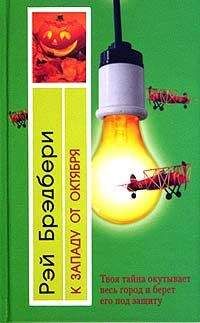Грэм Грин - Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой
В ту минуту я не чувствовал даже сонливости. Голова у меня была более ясная, чем всегда, – как бывает, когда немного выпьешь, и такое, хоть и временное, состояние позволило мне сообразить причину вызова доктора Фишера: имущество, наследство… Деньги, оставленные Анне-Луизе матерью, как я вспомнил, находились под каким-то контролем, она могла получать только проценты. Я понятия не имел, к кому теперь попадет капитал, и подумал с ненавистью: «На похороны ее он не пришел, а уже думает о том, что будет с деньгами». Может быть, их получит он, эти кровавые деньги. Я вспомнил ее белый рождественский свитер, выпачканный кровью. Значит, он не менее жаден, чем все жабы. Да он и сам жаба – их жабий король. И вдруг, именно так, как я воображал свою смерть, меня одолел сон.
15
Когда я проснулся, я был уверен, что проспал час или два. Голова у меня была совершенно ясная, но, кинув взгляд на часы, я решил, что стрелки каким-то непонятным образом ушли назад. Я взглянул в окно, однако свинцовое снежное небо ничего мне не сказало: оно было почти такое же, как и прежде, когда я заснул. То ли утреннее небо, то ли вечернее – думайте как хотите. Я далеко не сразу понял, что проспал больше восемнадцати часов, и тут кресло, в котором я сидел, и пустой стакан вернули меня к сознанию того, что Анна-Луиза умерла. Стакан был как разряженный револьвер или нож, который без толку обломился о грудную кость. Надо будет поискать другой способ умереть.
Тут я вспомнил про телефонный звонок и беспокойство доктора Фишера о наследстве. Я был болен от горя, и, право же, больному простительны болезненные фантазии. Я хотел унизить доктора Фишера – человека, который убил мать Анны-Луизы; я хотел, чтобы он страдал, как страдаю я. Я пойду и встречусь с ним, раз он об этом просит.
Я нанял у себя в гараже машину и поехал в Версуа. Я чувствовал, что голова у меня не такая ясная, как я полагал. На автостраде я чуть не врезался в заднюю часть сворачивавшего грузовика и подумал, что такая смерть ничуть не хуже, чем от виски, – но, быть может, она и вовсе обошла бы меня стороной. Меня могли вытащить из обломков машины калекой, уже неспособным себя уничтожить. После этого я стал вести машину более внимательно, но мысли мои блуждали, их притягивало красное пятно, за которым я следил, когда она поднималась вверх на фуникулере к той piste rouge, тот уже совсем красный свитер на носилках и бинты, которые я принял за седину незнакомого человека. Я чуть было не проехал поворот на Версуа.
Громадный белый дом стоял над озером, как усыпальница фараона. Рядом с ним моя машина казалась карликовой, а звонок неестественно тренькал в недрах гигантской могилы. Дверь отворил Альберт. Почему-то он был в черном. Может, доктор Фишер надел траур вместо себя на своего слугу? Черный костюм явно пошел на пользу его характеру. Он даже не сделал вида, что не узнает меня. Он не стал надо мной глумиться, а поспешно пошел наверх по широкой мраморной лестнице.
Доктор Фишер не был в трауре. Он сидел за своим столом, как и при нашей первой встрече (стол был почти пуст, если не считать большой и явно дорогой рождественской хлопушки, сверкавшей киноварью и золотом), и предложил мне, как раньше: – Садитесь, Джонс.
Потом наступило долгое молчание. На этот раз он, казалось, не знал, с чего начать. Я поглядел на хлопушку, он взял ее, потом положил на место, и молчание длилось и длилось, так что в конце концов нарушил его я. Я упрекнул его: – Вы не пришли на похороны своей дочери.
Он сказал:
– Она была слишком похожа на мать. – И добавил: – Она даже лицом стала на нее похожа, когда выросла.
– Да, это говорил и мсье Стайнер.
– Стайнер?
– Стайнер.
– А-а. Этот человечек еще жив?
– Да. По крайней мере несколько недель назад был еще жив.
– Клопа трудно прикончить, – сказал он. – Они заползают обратно в щели, откуда их потом не достанешь.
– Дочь никогда не причиняла вам зла.
– Она была похожа на мать. И характером, и лицом. И вам бы причинила такое же зло, дай ей только время. Интересно, какой бы Стайнер выполз из щели в вашей жизни. Быть может, мусорщик. Им нравится нас унижать.
– Вы позвали меня для того, чтобы это сказать?
– Не только, но и это, да. В тот раз после ужина я подумал, что кое-чем вам обязан, а я не из тех, кто любит быть должником. Вы вели себя лучше других.
– Кого – жаб?
– Жаб?
– Так ваша дочь называла ваших друзей.
– У меня нет друзей, – повторил он слова своего слуги Альберта. И добавил: – Это знакомые. А знакомых не избежать. Не думайте, что такие люди мне не нравятся. Это неверно. Не нравиться могут только равные. А их я презираю.
– Так, как я презираю вас?
– Нет, Джонс, вы меня не презираете, отнюдь. Вы неточно выражаетесь. Вы не презираете меня. Вы меня ненавидите или думаете, что ненавидите.
– Не думаю, а знаю.
На это утверждение он ответил мне улыбочкой, которая, по словам Анны-Луизы, была опасной. Это была улыбка, полная беспредельного безразличия. Это была та улыбка, которую, как я представляю себе, скульптор смело и богохульственно высекает на невыразительном, бесстрастном лике Будды.
– Значит, Джонс меня ненавидит, – сказал он. – Что ж, это делает мне честь. Меня и вас ждет Стайнер. И в каком-то смысле по одной и той же причине. В одном случае – это моя жена, в другом – моя дочь.
– Вы никогда не прощаете, верно? Даже мертвым?
– Ах, Джонс, при чем тут прощение. Это христианское понятие. Вы христианин, Джонс?
– Не знаю. Но точно знаю, что никого так не презирал, как вас.
– Вы опять выразились неточно. Семантика – важная наука, Джонс. Говорю вам: вы ненавидите, а не презираете меня. Презрение рождается из полного крушения надежд. Большинство людей не способны пережить крушение надежд, сомневаюсь, чтобы способны были на это и вы. Их надежды для этого слишком мелки. Когда ты презираешь, это похоже на глубокую, неизлечимую рану, преддверие смерти. И пока у тебя еще есть время, надо за эту рану отомстить. Когда тот, кто эту рану тебе нанес, умер, надо мстить другим. Если бы я верил в бога, я, вероятно, захотел бы отомстить ему за то, что он сделал меня способным чувствовать разочарование. Кстати – это чисто философский вопрос, – как можно отомстить богу? Христиане, наверное, скажут: заставить страдать его сына.
– Быть может, вы и правы, Фишер. Быть может, мне даже не стоит вас ненавидеть. По-моему вы сумасшедший.
– Ах нет же, нет, я не сумасшедший, – сказал он с этой невыносимой улыбочкой, полной несказанного превосходства. – Вы человек не слишком большого ума, Джонс, не то в ваши годы не переводили бы для заработка письма о шоколадках. Но иногда у меня возникает желание поговорить с человеком, даже если это и выше его понимания. На меня такое желание находит порой и когда я сижу с одним из – как их называла моя дочь? – с одной из жаб. Забавно следить за их восприятием. Никто из них не осмелится назвать меня сумасшедшим, как это сделали вы. Это ведь может лишить их приглашения на мой следующий ужин.
– И лишить тарелки каши?
– Нет, подарка, Джонс. Они не вынесут, если их лишат подарка. Миссис Монтгомери притворяется, что меня понимает. «Ох, до чего же я с вами согласна, доктор Фишер», – говорит она. Дин злится: он не переносит, когда что-нибудь недоступно его пониманию. Говорит, что даже «Король Лир» – это полная чепуха, потому что знает: он сыграть его не способен даже в кино. Бельмон внимательно слушает и сразу же меняет тему разговора. Подоходные налоги научили его увертливости. Дивизионный… Я только раз при нем сорвался, когда не мог больше вынести глупости этого старика. А он на это только хмыкнул и сказал: «Шагом марш под грохот орудий». Он, конечно, никогда не слышал орудийного залпа – разве что ружейные выстрелы на учебном полигоне. Кипс – самый лучший слушатель… Думаю, он надеется извлечь хоть зернышко здравого смысла из того, что я говорю, авось пригодится. Ах да, Кипс… он мне напомнил, зачем я вас вызвал. Наследство.
– Какое наследство?
– Вы знаете, а может, и не знаете, что моя жена оставила доходы от своего маленького капитала дочери, но только пожизненно. Потом капитал должен был отойти к ребенку, который мог у нее родиться, но, так как дочь умерла бездетной, деньги возвращаются ко мне. Чтобы показать, что она меня «прощает» – как нагло указано в завещании. Будто мне не плевать на ее прощение – прощение за что? Если я приму эти деньги, я как бы соглашусь принять и ее прощение – прощение женщины, которая изменила мне с конторщиком мистера Кипса.
– Вы уверены, что она с ним спала?
– Спала? Возможно, что она просто дремала рядом с ним под какую-нибудь мяукающую пластинку. Если вы спрашиваете, совокуплялась ли она с ним, – нет, в этом я не уверен. Возможно, но я в этом не уверен. Да я и не придал бы этому большого значения. Животный инстинкт. Я бы мог выбросить это из головы; но она предпочитала его общество моему. Конторщика мистера Кипса с нищенским жалованьем!