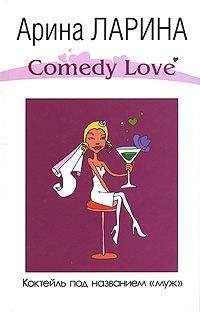Михаил Попов - Ларочка
— Они ждут, а я …
Лариса тут же оделась, мол, положись на меня.
— А лекции?
Лариса усмехнулась. Переехав из провинциального вуза в столичный, она обнаружила себя еще более бескопромиссной отличницей, чем была. Учение давалось легко, сказывалась врожденная бойкость ума, и то, что она не отвлекалась от учебы ни на что, кроме общения с Изой. Подваливали, конечно, какие–то увальни с вермутом, танцами и другими тусклыми глупостями, но она уничтожала их ехидным, разоблачающим взглядом. Однокурсницы перед ней заискивали, рассказывали фантастические сплетни про ее внеинститутские связи, и были втайне рады, что она не охотится на их территории.
В общежитии энергетиков ее «принял» Фернандо. Мрачноватый, жгучий красавец–брюнет. Он взял у нее пакет с «материалами» и настоял на том, чтобы «связная» выпила с ним кофе. Они поднялись в комнату, которую он делил еще с двумя другими брюнетами. Лариса поднялась из любопытства и из нежелания оскорбить уязвимую душу борца с тиранией. Никакой ожидаемой экзотики не обнаружилось в комнате Фернандо. Обычная общажная конура на три койки, кое–как застеленные постели, разбросанная одежда, грязный кед выглядывает из под стула. Велосипед в неприличном — вверх колесами — положении. Латиноамериканские мужчины были, видимо, не столь чистоплотны как их женщины.
Кофе оказался растворимый, да к тому же индийский. Лариса подумала, что это забавно, индеец потчует ее индийским кофе. Фернандо непрерывно тараторил. Почти непонятно. С огромным трудом Лариса намывала из породы этой болтовни золотой песок какого–то смысла. О, охмуряет! И он, действительно, охмурял. Великолепно, умело… Откуда–то из–за стены явился друг Фернандо по имени Аурелиано с расстроенной гитарой, отчего извлекаемые им звуки, были особенно душещипательны. От этого обволакивания и мужского напора, Ларисе стало душно. Она встала прямо посреди песни, и удалилась.
И устроила Изе тихий скандал по возвращении. Как ты могла?! Ты же знала о моем отношении к мужчинам!
Иностранка выглядела очень смущенной, она настолько расстроилась, что Ларисе пришлось ее утешать. Иза ругала себя, дура, дура, бляга муга! Как я могла! Я ничего не понимала!
— Он тебя обидел?
Лариса усмехнулась и сделала атакующее гандбольное движение, распахнула кисть так, будто держала в ней оторванную мужскую голову. Иза была в восторге, обняла и поцеловала подругу шепча, что–то вроде: как я могла такую девочку отдать каким–то грубым диким мужикам.
С тех пор Лариса, выполняя поручения Изы, никогда не попадала в сомнительные ситуации. С ней были просто вежливы и все.
Очень скоро стало понятно, что Изабелла не рядовой работник сопротивления заморской диктатуре, она, своего рода, профессор Мориарти в хорошем смысле, мозг этого сопротивления. Или, по крайней мере, один из важных отделов этого мозга. Лариса побывала в десяти–двеннадцати московских вузах, снабжая «материалами» группы смуглых активистов. Вечерами, они сидели с подругой при свечах, и ей было так уютно, так хорошо, как в постели с мамочкой лет в пять. Ни о чем не надо думать, ничего не надо бояться.
Лариса вошла во все обстоятельства подруги.
Например, почему это к ней никого не пускают из ее латинских друзей? Нарушение режима? Парням нельзя вваливаться в женское общежитие. Мгновенно образуется латинский квартал. Чепуха! Дискриминация! Сначала Лариса наехала на вахтершу, довела подслеповатую старуху до слез, и поняла только одно — гонения инспирированы откуда–то сверху. Даже к коменданту идти бесполезно.
Комитет комсомола.
На вопрос, почему так обращаются с хворой революционеркой, ей не смогли понятно ответить. Уклончивые слова, мягкие улыбки, странные советы не обострять, не напрягать.
Лариса отказывалась понимать иносказания, и требовала прямых формулировок.
Так мы дружим с теми, с кем у нас объявлена дружба, или только болтаем, что дружим? Партия и правительство за свержение той диктатуры с которой борется, превозмогая нездоровье Изабелла Корреа Васкес, или нет?
Не добившись вразумительного ответа в комитете комсомола, Лариса двинулась в массы. На каждой перемене она в буфетах и курилках возбуждала общественное возмущение против варварских порядков. Она всячески расписывала человеческие достоинства Изы, ей в ответ кивали, но без азарта. Любого, кто пытался ей возразить, она мгновенно обливала таким количеством ледяного презрения, что от человека оставался лишь Карбышев.
Приходите в гости, девочки, вы увидите, что это за чудо Иза!
Девочки усмехались, и обещали подумать. Один раз кто–то из них спросил, а что с Ларисиной соседкой по комнате, она еще не вернулась? Наверно, все еще где–то болеет, рассеяно отвечала Лариса.
Вообще, правильно говорят, что советские не слишком дружелюбны. Никакой открытости, никакой душевной щедрости. Одна похвальба. Одни только разговоры о дружбе народов, а на самом деле предубеждения и косность!
А Изабелла умела дружить. Да, она вся была «там», в пампасах горюющей родины, но и отлично различала то, что происходит вокруг. Она, например, первая поняла, что Ларочку тошнит отнюдь не только в ответ на песенный рефрен «женщина скажет, женщина скажет…».
— Ты беременна.
Ларочка посмотрела на подругу удивленно и испуганно. Нет, она, вобщем–то, осознавала, что значит факт многонедельной задержки, но, вместе с тем, совершенно искренне считала, что ненужный, неуместный, ребенок куда–нибудь денется, рассосется, ибо если отец его оказался такой законченной сволочью, то нет никаких оснований для продолжения состояния беременности. И какое–то время у нее были основания думать, что этот «ребенок» внял этой логике и пустился в обратный путь во вполне заслуженное небытие, из которого его выдернули и случайно, и напрасно.
— Я не хочу! — Оскорбленно и капризно заявила Лариса.
Изабелла заварила самый крепкий кофе, на какой была способна ее кофеварка. Подруги выпили по чашке, и стали подсчитывать, сколько недель этой неприятности. Выходило, что время еще есть. Одно посещение абортария — конечно, жуткое испытание — и свобода!
— А у тебя есть дети, Иза?
Подруга провела узкой ладонью по масляно поблескивающим волосам, и вставила сигарету в рот набитый валидолом.
— Я родила, когда мне было пятнадцать.
Лариса присвистнула, хотя и не умела свистеть.
— А твой муж, такой же негодяй как и мой?
— Хуже, Лала (она плохо выговаривала букву «р», как ребенок), хуже.
Лариса прониклась любопытством.
— Как это?
— Он вообще был индеец.
— Тебя похитили?
— Нет, я сама его соблазнила.
Лариса смотрела на подругу в полнейшем восхищении — какая сильная самка! Взяла и соблазнила команча. Пусть он и ускакал потом на своем абреке. Ей даже и в голову не пришло, что она с таким же правом могла бы восхищаться и собою. Чем уж так полуболгарский сварщик уступает в своей подлости краснокожему коннику. И тоже ускакал.
Так что же делать с потомством белорусского поэта? Ларисе сделалось как–то не по себе. Она боялась не возможной огласки, совсем нет. Впоследствии она спокойно и даже увлеченно обсуждала эту тему с однокурсницами, весьма шокируя их своей откровенностью. Аборты были вещью обычной в их гуманитарном заведении, но об этом все же предпочитали не распространяться, и только об абортных проблемах Ларисы был оповещен весь поток.
И не физической боли она боялась, хотя конечно думать о предстоящих скальпелях, крови и прочем было тоскливо. Ее угнетала мысль о том, что эта операция опять возвратит ее как бы в круг влияния этого негодного рифмача с белой шеей. Для того чтобы он в нее вошел пришлось делать операцию, и чтобы изгнать его опять без нее не обойтись. Она до такой степени полно, окончательно и уничтожительно презирала этого человека, что даже от такого, чисто условного возврата к нему ее тошнило, не хуже чем от песни со словами «женщина скажет».
Конечно, строго говоря, это был всего лишь несущественный каприз психики, но когда она рассказала Изе о нем, та отнеслась к нему с чрезвычайно серьезностью. Лариса была благодарна ей. Глубоко благодарна. Мы любим, когда учитываются наши законные требования, но особенно мы ценим, когда к таким вот искривлениям нашей натуры проявляют участливое понимание.
Но, вместе с тем, надо ведь что–то делать. Время идет. Не оставлять же ребенка, только исходя из–за приступа этой заочной брезгливости. Нет, в этом Иза поддерживала подругу. То, что Ларисой сделал беглый подлец, хуже, чем обыкновенное изнасилование, это духовное растление. И даже в некоторых католических странах разрешается избавление от подобного плода.
Так что же делать?!
Надо найти другой путь к очищению.
Какой?!
— Я, как ты наверно догадалась, немного ведьма. Совсем чуть–чуть.