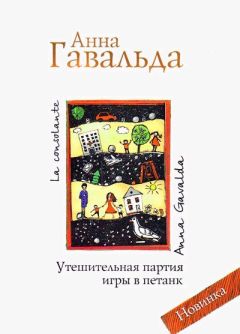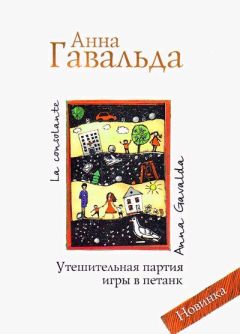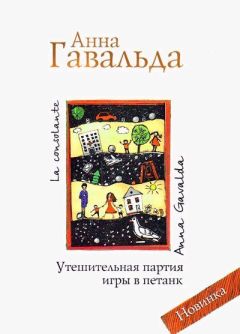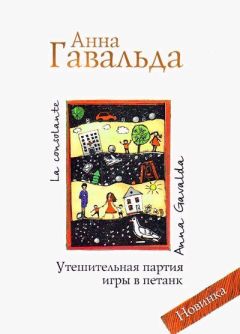Джулиан Барнс - Лимонный стол
Надо будет снова покрыть лаком для яхт настил террасы перед стеклянными дверями, новые стулья для патио все время его царапают… Не помешает подкрасить удобства… Надо заняться газонокосилкой, наточить ножи. Да только нынче не найти кого-нибудь, кто мог бы их наточить — смотрят на тебя и советуют купить новую на воздушной подушке с пластмассовой оранжевой штукенцией вместо ножа.
Бабс и Нора. Ему не требовалось натягивать джоник, она ведь знала, что никуда больше он не ходит, а забеременеть она уже не могла. И только раз в году прерывала заслуженный отдых ради него; немножечко привязалась к тебе, Джеко, только и всего. Как-то пошутила насчет своего бесплатного билета на проезд в автобусе — теперь, значит, он узнал, что она старше него; и старше Памелы тоже. Однажды, когда они все еще в течение дня выпивали за день целую бутылку, она предложила вынуть свою верхнюю челюсть, чтобы пососать его, а он засмеялся, но подумал, что это омерзительно. Бабс была Норой, и Нора умерла.
Ребята на банкете никакой разницы не заметили. Он своей дисциплины не нарушил. Не нализался. «Уже не так справляюсь, как прежде, правду сказать, старина», — сказал он, и кто-то захихикал, будто это была шутка. Он отвалил пораньше и выпил в «Маркизе Грэнби». Нет, сегодня только полпинты. Уже не так справляюсь, как прежде. Прежде смерти не умрем, ответил бармен.
Он презирал себя за то, как притворялся перед шлюхой. Так вы все-таки хотите того, зачем пришли. О да, он все еще хотел того, зачем пришел, только вот зачем, она знать никак не могла. Этим они с Бабс не занимались… сколько? Пять лет, шесть? Последние два года они и шампанское почти не пили. Ему нравилось, как она надевала распашоночку, которой он ее всегда поддразнивал, забиралась с ним в постель, гасила свет и говорила про былые дни, про то, как это бывало. Разок, чтобы поздороваться; разок — взяться задело по настоящему; и еще разок — на дорожку. Ты в те дни был тигром, Джеко. Совсем меня выматывал. Я на следующий день отгул брала. Да нет. Да-да. Вот уж не думал. Да-да, Джеко, настоящий тигр.
Ей было неприятно повышать таксу. Но квартплата — это квартплата, и платил он за пространство и время, чем бы там он ни хотел или не хотел заниматься. Получить железнодорожную карточку пенсионера все-таки имело смысл, теперь он мог экономить на поездке. Не то чтобы осталось какое-нибудь «теперь». В Лондоне он побывал в последний раз. Бога ради, стилтон и салатомешалки можно купить в Шрусбери. Полковые банкеты все больше сводились к тому, чтобы увидеть не тех, кто сидит за столом, а тех, кого там нет. Ну а с его зубами разберется и местный коновал.
Пакеты на полке над ним. Список поручений — набор галочек. Пам сейчас уже едет на станцию, может быть, как раз сворачивает на кратковременную автостоянку. И всегда въезжает на свободное место радиатором вперед, Памела то есть. Не любит заднего хода, предпочитает откладывать на потом; а скорее, чтобы свалить это на него. Он совсем другой. Предпочитает въезжать на место задним ходом. Так вы обеспечиваете себе быстрейший выезд. Просто вопрос натренированности, надо полагать; быть всегда наготове для qui vive[9]. Памела имела обыкновение спрашивать, а когда нам в последний раз требовался быстрейший выезд? В любом случае на выезде почти всегда очередь. Он имел обыкновение отвечать, если мы окажемся там первыми, очереди не будет. Очередное доказательство. И так далее.
Он дал себе зарок не глядеть на колесные диски, чтобы проверить, не ободрала ли она их еще больше. Он ничего не скажет, когда опустит стекло и протянет руку с жетоном к щелке. Он не скажет: Погляди, как далеко колеса, и все равно я дотягиваюсь. Он просто скажет: «Ну, как собаки? Что-нибудь от детей? Доставили суперкопалку?»
И все же он скорбел о Бабс и подумал, будет ли он не меньше скорбеть о Памеле. Конечно, если обернется так.
Он выполнил все поручения. Поезд начал втягиваться на станцию, и он посмотрел в завинченное окно, надеясь увидеть на перроне жену.
Вспышка[10]
1
Петербург
Это была его старая пьеса, написанная во Франции еще в 1849 году. Тогда российская цензура запретила публикацию, и пьеса была напечатана только в 1855 году. Ее впервые поставили еще семнадцать лет спустя, и эти пять спектаклей в Москве полностью провалились. Теперь, через тридцать лет после написания пьесы, актриса спросила по телеграфу его разрешения на новую постановку в Петербурге. Он согласился, мягко оговорившись, что эта давняя вещь писана не для сцены. Он добавил, что пьеса недостойна ее таланта. Это была ничего не значащая любезность — ведь он еще не имел случая увидеть ее игру.
Пьеса, как большинство его сочинений, была о любви. И в литературе, как в жизни у него, любовь не удавалась. Любовь могла с меньшим или большим успехом пробуждать добрые чувства, льстить самолюбию или очищать кожу — но счастья она не дарила; всегда мешало несоответствие чувств или намерений. Такова уж природа любви. Конечно, она удавалась в том смысле, что была источником сильнейших ощущений жизни, делала его свежим, как весенний цвет, а потом колесовала, как отступника. Она вела его от вышколенной щепетильности к относительной отваге, хотя отвага эта была довольно умозрительного свойства и ей трагикомически не хватало воли к действию. Любовь учила его наивной жадности предвкушения, горькой обездоленности провала, стону сожаления и глупой нежной памятливости. Уж он-то знал, что такое любовь. Он знал также, что такое он сам. Тридцать лет назад он придал свои черты Ракитину, рассуждающему о любви на сцене: «По-моему, Алексей Николаич, всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, — настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь…» Все эти мысли цензура пустила под нож.
Он предполагал, что она будет играть главную героиню — Наталью Петровну, замужнюю женщину, которая влюбляется в учителя своего сына. Но она выбрала роль Верочки, воспитанницы, которая, как водится в пьесах, тоже влюбляется в учителя. Сыграли премьеру; он приехал в Петербург; она посетила его в «Европейской гостинице», где он остановился. Она со страхом ожидала встречи, но была очарована «элегантным и милым дедушкой». Он обращался с ней как с ребенком. Что в этом удивительного? Ей было двадцать пять, ему шестьдесят.
Двадцать седьмого марта он отправился на представление своей пьесы. Хоть он и прятался в глубине ложи, его узнали, и после второго действия зрители начали выкрикивать его фамилию. Она пришла к нему, чтобы вывести его на сцену, но он отказался и поклонился публике из ложи. После третьего действия он явился к ней в уборную, взял ее за руки и подвел к газовому рожку. «Верочка… — сказал он. — Неужели эту Верочку я написал?! Я даже не обращал на нее внимания, когда писал… Все дело в Наталье Петровне… Вы живая Верочка…»
2
Реальное путешествие
Итак, любовь к своему же творению? Верочка на сцене, освещенная огнями рампы, Верочка за кулисами, освещенная газовым рожком, — его Верочка, тем более желанная теперь, что он проглядел ее в своей пьесе тридцать лет назад? Если, как порой утверждают, в любви человек всецело обращен на себя, если предмет ее в конечном счете не важен, потому что влюбленный ценит лишь возникшие в нем самом чувства, то существует ли закругленность более складная, чем любовь драматурга к своему персонажу? Кому нужно вторжение реальной женщины, реальной ее, освещенной солнцем ли, рампой ли, огнем ли сердца? Вот фотоснимок Верочки, одетой словно для школьных уроков, кроткой и привлекательной, с живыми глазами и повернутой к нам доверчивой ладошкой.
И если подобное смешение произошло, причиной тому была она. Годы спустя она писала в воспоминаниях: «Я священнодействовала… Мне совершенно ясно представлялось, что Верочка и я — одно лицо…» Стоит ли удивляться, что именно эта «живая Верочка» тронула его вначале; и ее тоже, возможно, вначале тронуло нечто несуществующее — автор пьесы, каким он был давным-давно, тридцать лет тому назад. Учтем к тому же, что он наверняка переживал эту любовь как последнюю в своей жизни. Он был уже стар. Где он ни появлялся, всюду его приветствовали как некое явление, как представителя былой эпохи, уже сказавшего свое слово. За границей его облачали в мантии и вешали ему на грудь ленточки. В свои шестьдесят лет он был стар не только по возрасту, но и по сознательному решению. Год или два назад он написал: «После 40 лет суть жизни сводится к одному-единственному слову: самоотречение». Он уже прожил полтора этих срока. Ему было шестьдесят, ей двадцать пять.
В письмах он целовал ей ручки, целовал ей ножки. Послал ей золотой браслет с награвированными вдоль внутренней стороны двумя их фамилиями. «Я… почувствовал, — писал он, — как я искренне полюбил Вас. Я почувствовал… что Вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я уже никогда не расстанусь». Написано в общепринятых выражениях. Стали ли они любовниками? Вряд ли. Для него это была любовь, замешенная на самоотречении, любовь, чьи восторги именовались «если бы» и «могло бы статься». И подобно тому, как до возраста самоотречения доказательством или по крайней мере свидетельством в пользу изъявляемого чувства служит мужская сила, — эрекцию в зал для дачи показаний! — так в поздние годы, в годы увядания, плотская немощь служит признаком одряхления сердца.