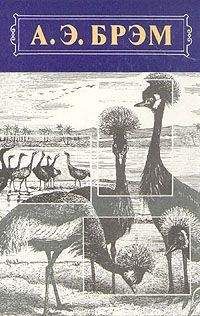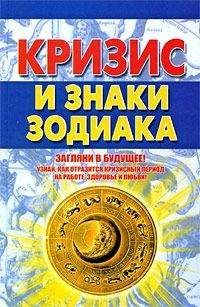Виктор Смирнов - Заулки
Отдыхай, москвич, чувствуй себя всюду человеком — это ты бросал знамена фашистских легионов на камни площади. Ты, или твой брат, или отец.
Димка поднимается по широким ступенькам ко входу в буфет. Пальцы закоченели, чемоданчик хоть и не тяжел, а вот-вот вывалится. Ветер, подхватив крупные, мокрые хлопья снега, несется от Манежа к гостинице, надувает Димкины широкие брюки, превращает их в колокола, леденит колени. Брр…
Женщина за буфетным столом, взглянув на лицо Димки, его запотевшие от тепла очки, побелевший нос, наливает ему, за ту же пятерку, полуторную норму. Студент! Димка уходит за высокий столик и, ощущая ногой кран чемодана (буфет буфетом, да не зевай, в Москве сейчас всякого люда полно), греет руки, вцепившись в стакан. Дышит винным паром, корицей. Первый глоток разливает по телу густое и нежное тепло. Нет, ничего, проживу, решает Димка, За окном — тусклый день, видно желтое пятно Манежа, краснеют стены и башни Кремля. Ночевать буду пока на вокзале, чемодан оставлю в камере хранения. Утром раненько — на занятия. Потом можно в библиотеке посидеть, попозже в «Полбанку» съездить. Про вокзал там никому не скажу — стыдно признаться, что выставили за дверь. Подожду, когда появится Гвоздь, от него нет секретов. Что-нибудь придумаем, проживем.
Теплеет, теплеет на душе у Димки, парок глинтвейна поднимается ввысь, чуть дурманит голову легким хмельком, рождает цветные мечты, неясные, но счастливые предчувствия. Москва такой город, от которого Димка привык ждать чудес. Ну, на Площадь он больше не пойдет, раз Гвоздь просил. Но это не значит, что у него нет надежды увидеть самого. Может быть, если он хорошо проявит себя в университете и заслужит доверие, его назначат участвовать в физкультурном параде. Он, Димка, будет нести самый большой, самый лучший портрет. И, может быть, человек в известной каждому шинели, с широкими золотистыми погонами генералиссимуса, вдруг отметит своими проницательными глазами очкастого восторженного студента в бумазейном ярком свитерке, вмиг высветит своим взором все Димкины мысли, все радости и беды, устремленные к мраморной недосягаемой высоте, предназначенной лишь для самых великих, и он сделает чуть заметный жест, вызывая веселого, расторопного порученца…
Согревшийся, убаюканный мечтами, с глупой улыбкой на пухлых губах, выходит Димка из гостеприимного светлого буфета.
Вокзал встречает его вначале — у входа — голосами нищих и калек, а затем — грохотом голосов. Огромный зал, дальний конец которого теряется в дымке цигарок и человеческих испарений, заполнен сидящими, лежащими, стоящими транзитниками с узлами, фанерными чемоданами, заплечными сидорами, ящиками, сундуками, авоськами. Кажется, вся послевоенная Россия, переезжающая с места на место в поисках жилья, тепла, еды, близких, вместилась в этот необъятный зал. Шинели, ватники, полушубки, бабьи платки, кокетливые беретики, серые солдатские ушанки, кепки колышутся волнами в сизом мареве. Спят, кричат, ссорятся, обнимаются, плачут. Детский истошный ор перекрывает крики лоточниц с пирожками, мороженщиц.
Димка останавливается у входа, сжатый людьми, боясь тронуться дальше, в самый человеческий водоворот, который, кажется, стоит сделать несколько шагов — сожмет и не выпустит, закружит и унесет куда-нибудь на Камчатку. Одной рукой Димка вцепился а чемоданчик, другой придерживает сидор, чтоб не снял какой-нибудь урка в толчее.
Димка, выросший в безлюдьи, в сельской тиши, боится толпы, как загадочного чудовищного существа. Это, представляется ему, не просто скопище людей, это особый, непонятный организм, живущий не теми законами, которыми живет отдельный человек. Димку толкают туда-сюда, швыряют через чьи-то ноги, через узлы, и он движется сложными зигзагами, как дрейфующая льдина. Как-то само собой оказывается, что его выносят к камере хранения, но туда, прижатый к стене, тянется такой бесконечный хвост, что Димка начинает выкарабкиваться подальше, упираясь о чьи-то пропахшие махорочным дымом плечи. Обрывки разговоров носятся близ ушей Димки, как потревоженные птицы.
— …Думаю податься порубить уголек.
— А почем там пшеничка? А сколько за сапоги дадут?…
— Он мне отписал, чтоб приезжала. По письмам-то неплохой мужик, а вдруг пьянчуга, а писал кто другой?
— А я на стройку. Вот взял да так и подался налегке. Был бы угол теплый да харчи. А я все могу, что мне с собой брать? Что умеешь, на горбу не носишь.
— Везу им иголки на обмен. Сто штук зашил подкладку.
— Пишет профессор: приезжай, осколок удалим. А я уж привык, вроде ничего. Но собрался — все-таки профессор, сам зовет.
— Трам-тарарам, братишка! Ты черноморец? зачаливай сюда, кореш, бросай якорь — мы балтиские, краснознаменные.
— Подайте погорельцам, подайте хоть копеечку, вам не в тягость, а нам во спасение…
— Во, возьми сухую селедочку японского посола — в дороге пососешь — сыт будешь. А воды всегда найдешь.
— Куда, куда? Чемодан раздавил. Чтоб тебе сорок раз одним куском подавиться!
— Я сюда проконструктироваться по вопросу пенсии. А куда податься — не знаю. Москва большая. Вот сижу на вокзале второй день…
— Терпи, милая. Лихо не без добра.
— На мозолях войну вынесли, а не на крови. Кровь что, она льется без спросу, а мозоль без труда не вскочит.
— Тихо, Санек, мусор сзади.
— Надо было тебе в ночной профилактически браток. Сразу.
— Эха! На печи горячо, а в печурке жарко, а я мужа не рожала, а мне его жалко… Давай, давай подыгрывай…
Гомон, крики, вонь, балалайка, губная гармошка, визг, вопли младенцев, милицейские свистки, хриплые, оглушающие объявления по радио.
Димка вырвался в уголок, озирается затравленно. Чей-то кулак по-дружески бьет его в бок. Он отскакивает, видит рядом гибкого, хлыщеватого, в курточке-канадке, в полусапожках, клешах напуском в голенища, с челочкой, сухолицего.
— Серый, ты?
— Я… Узнал? — Серый радуется, пританцовывает гибкими, как стебли вьюнка, вихляющимися ногами. — Ну, как ты — студент, а?
Он похлопывает Димку по плечам, бокам, бедрам — это быстрые, проворные и легкие, как будто совсем нечаянные движения. Пальцы у Серого играют на ходу, словно на невидимой гитаре.
— Студент.
— Молодец, молодец. Я так и думал: этот очкарик поступит, этот продолбит, молоток! Ну, а теперь на мели? Денег нет, а тебя поперли?
— Ты откуда знаешь?
— Вижу, вижу, в карманах пусто, дай бог, ее пару «шахтеров» да «летчиков» наберешь. Ну, может, «двух бойцов» [2], а? И все вещички с собой? корешок, все сразу определяю, а иначе грош мне цена. Я, оленечек, только в цвет должен попадать.
Не то чтобы Димка обрадовался знакомому — неприятны были и его проницательность, и вихляние это, похлопывание, в котором даже неопытный Димка уже успел распознать профессиональные жесты бывалого карманника, желающего определить состояние возможной жертвы. Но что с него возьмешь, с Димки? Ни «летчик», ни «два бойца» — не добыча для Серого, разве что на мороженое.
Да к тому же, Димка помнит, Серый — парень компанейский, веселый и ценит друзей. Познакомились они еще летом, когда Димка приехал в Москву и должен был поселиться у Евгения Георгиевича. Хозяин потребовал справку из санпропускника о гигиенической обработке тела и вещей: «Дело нужное, и с вас, Дима, все равно бы потребовали, так что не поленитесь». Справки такие, в самом деле, требовались всюду: и в гостиницах, и в общагах. Страна боролась со вшами, которые, в отличие от боевого противника, еще и не думали сдаваться. Вот в санпропускнике они и встретились с Серым и, намыливая вихры едким то ли дегтярным, то ли карболовым мылом, кусочек которого выдавался обрабатываемому, хохотали до слез — беспричинно, просто от избытка сил, от ощущения молодости. Потом продолжали хохотать, получая у старухи раскаленную в духовке, пахнущую чужим одежду, обжигались о металлические пуговицы и пряжки. Потом Димка угощал Серого пивцом в соседнем шалмане, куда завел новый знакомый. Димка, если признаться, впервые в жизни сидел в настоящем шалмане, впервые пил пиво из кружки, впервые угощал человека на собственные деньги. Несколько «летчиков» улетели из кармана, но Димка был доволен: приятель оказался малым бывалым, остроумным, он без конца напевал, пританцовывал, шутил, нахваливал Димку, называл москвичом, тертым парнем, умницей. Димка и сам поверил, стало легко, весело.
Пританцовывая, смеясь, Серый исчез из жизни Димки. И вот — выскочил под вокзальные своды, как на сцену, все так же притоптывая и вихляясь.
— С меня причитается, Димок! — кричит Серый в ухо Димке. — Пойдем, я тут знаю место. Посидим. Помозгуем, как жить.
Димка соглашается охотно. Ни толкаться в очереди в камеру хранения битых часа два, ни бродить в толпе ему, конечно, не хочется. Шлепая по мокрому снегу, они бредут по площади, и Серый без конца подпрыгивает, взмахивая ногами.