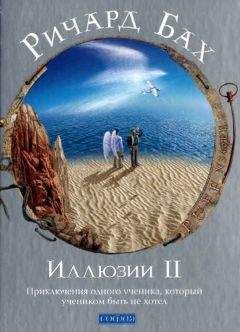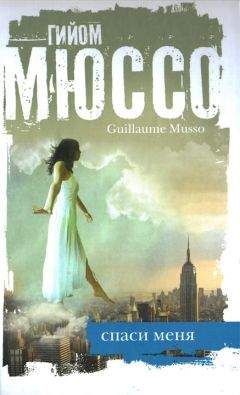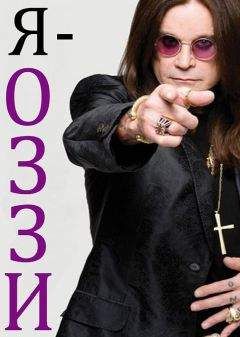Татьяна Толстая - Река (сборник)
«Что это у вас? — спросила она. — Ветка. — Какая ветка? — Вы видите: сиреневая. — Где вы взяли? Тут нет сирени. — Это вы давеча сорвали и бросили…»
«Что это? — спросил он, оторопев. — Вы видите — ветка. — Какая ветка? — Сиреневая. — Знаю… но что она значит? — Цвет жизни и…»
Но любовь проходит, «сирени отошли, вчера отошло, и миг отойдет, как сирени».
«Что же стало с Обломовым? Где он? Где? — На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его, между кустов, в затишье. Ветви сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой…» (Знает ли «дружеская рука», что сирень предпочитает суглинистую почву? На низких сырых местах необходимо дренирование почвы и подсыпка земли. Сирень хорошо растет на почвах с РН 6,5–8, поэтому кислые почвы известкуют. Первую подкормку проводят рано весной, как только начнут отрастать побеги. При этом вносят полное минеральное удобрение: 20–30 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия на одно растение и заделывают на глубину 10–15 см. При подкормке минеральныеудобрения лучше вносить вместе с раствором навозной жижи или коровяка. Тогда все будет хорошо).
Сирени становится все больше и больше, — вот и на кладбище ее высаживают, вот и дворянские усадьбы угасают, — «Все в прошлом» — картина Максимова, где старуха в кресле оправдывает название полотна, а над ее головой — половодье цветов. Тоже кладбище своего рода. А потом она разрастается по деревням и селам, так что и Есенин запросто пройдет сквозь нее по своим крестьянским надобностям:
По-прежнему с шубой овчинной Иду я на свой сеновал. Иду я разросшимся садом, Лицо задевает сирень, — и Набоков, ностальгируя, вспомнит «за-хлест сирени станционной», то есть к 1918 году она уже станет таким же бытовым кустом, как рябина, о которой тоже хорошо угрызаться на чужбине. Сирень — это такая весенняя рябина, обратная рябина, только ненадежная и быстро вянущая. В общем, к началу серебряного века сирень можно было специально не замечать, привыкнуть, но серебряный век, падкий на все лиловое, вцепился в нее как в символ иного бытия, как в эротически-томный, декадентский, бесплотный, наркотически-лунный, ядовитый, пьяный и головокружительный изыск. Сначала Эрос: «сирень — сладострастья эмблема», «припадая к цветам сирени лунной ночью, лунной ночью мая», «в грезах безумья, в снах сладострастья есть у сирени темное счастье — темное счастье в пять лепестков», «пьян сном сиреневых ветвей», а потом, натурально, Танатос: «и ходить на кладбище в поминальный день, да смотреть на белую Божию сирень»… «Плачут сирени под лунный рефрен». «Художник нам изобразил глубокий обморок сирени». «Сирень» Врубеля — это вам не уютненький поле-новский «Бабушкин сад», это бездна. Первая его «Сирень» еще розовая, вторая уже фиолетовая: пошли блоковские «лиловые миры», провалы в вечность, предвидение катастроф. Мелким дождем — могильные сиреневые крестики, осыпающиеся на кладбищах, «ты пришла меня похоронить… ты пахнешь, как пахнет сирень». «И кладбищем пахла сирень». «Сирени запах жуток». Да, собственно, и «станционная сирень» Набокова-Сирина, сиреневого Сирина, — это тоже смерть, потому что любой отъезд — маленькая смерть, большое расставание. Кому открылось, тот предчувствовал: «оттого, что по всем дорогам, оттого, что ко всем порогам приближалась медленно тень». Придумать рифму. Ослеп Врубель, оглох Блок, бежал Набоков, бежала Тэффи, кто не успел, тот опоздал. Кто успел — тоже погас.
К мысу радости, к скалам печали ли, К островам ли сиреневых птиц — Все равно, где бы мы ни причалили, Не поднять нам усталых ресниц.
Лиловые миры вздыбились и обрушились, и затопили ждавших и неждавших, и все умерло. Потом — провал. Реквизируют зерно.
Голод был, какого не видали. Хлеб пекли из кала и мезги. Землю ели. Бабы продавали С человечьим мясом пироги.
Не до цветов — хотя красная гвоздика, как пролитая кровь, как обещание пролить еще и еще, уже лежит на могилах первых большевиков. Где ее берут, интересно знать? Летом, наверно, в буржуйских садиках, зимой нарезают из тряпочек и бумажек. Впрочем, есть и такое свидетельство: на Ходынке, на летном поле, еще в 1915 году засеивали кровавыми гвоздиками те места, где разбивались насмерть «авиаторы». Сирень где-то там цветет себе — что ей сделается? — но никто ее не воспевает. Некому. И как-то понемногу забывается, что сирень — это нежная смерть, — вокруг слишком много грубой смерти, а стало быть, и грубого желания жить.
И возвращается она — в тридцатые — как грубая жизненная сила, как мясо, как веник кисти Кончаловского — срезанная секатором, воткнутая в горшок. Невольно думаешь, что он, по инструкции, ухватил крепкой левой рукой Мастера пышные, здоровые ветви, и, прижав букет к разделочной доске, крепкой правой рукой Мастера размозжил нижнюю часть ветвей молот-ком, ободрал лишние листья, кинул в горшок два кусочка сахару, встряхнул и расправил получившееся; да и изобразил. Пышущую свежестью, румяную, тридцать шесть и шесть. И еще раз изобразил. И еще. И Пастернак ее — так же:
Пронесшейся грозою полон воздух. Все ожило, все дышит, как в раю. Всем роспуском кистей лиловогроздых Сирень вбирает свежести струю.
Здоровье. А не кладбище. И еще:
А ночь войдет в мой мезонин И, высунувшись в сени, Меня наполнит, как кувшин, Водою и сиренью.
И вот тоже:
И тучи играют в горелки, И слышится старшего речь, Что надо сирени в тарелке Путем отстояться и стечь.
Сирень прагматическая, сирень в горшках, кувшинах, тарелках, — потому что красиво, потому что здорово; витальная сила, украсить жилище, нарвать-наломать и любоваться, и себе, и людям, победа над слабостью, человек сказал Днепру: я стеной тебя запру! И улучшить ее! И селекция! Великий сиреневый садовод Колесников выводит сотни сортов в саду у станции метро «Сокол», неподалеку от той Ходынки, где вся земля в алых пятнах крови авиаторов, и не только авиаторов. Названия сортов тоже — эх! Победа силы и чистоты над томностью и всяким там эросом: Олимпиада Колесникова, Огни Донбасса, Лебедушка, Заря Коммунизма, Капитан Гастелло, Великая Победа, Валентина Гризодубова, Алексей Маресьев, Партизанка, Тарас Бульба. Разбился — в сирень! Без ног — в сирень! Бей так — что ни патрон, то немец! А кусты двух сортов — Знамя коммунизма и Путь Коммунизма — растут в сквере у Конгресса США. «Он вдруг спохватится: а где они? — А мы уж в сердце у него!»
Отныне она обозначает жизнь, всю жизнь — от гребенок до ног, от неуловимо-возвышенного -
Лиловое зданье из воска До облака вставши, плывет до пошлого и востребованного толпой:
Расцвела
Сирень в моем садочке.
Ты пришла
В сиреневом платочке.
Ты пришла, и я пришел —
И тебе и мне хорошо.
Она — и недоступная изгнаннику Россия («об отчизне я вспомнил далекой»), и вожделенная для полувыездного шестидесятника заграница («сирень похожа на Париж, горящий осами окошек»).
Она — наше все, цветок, пригодный для любого случая, русское и нерусское, персидское душистое серебро.
Наоборот
Принято считать, что русского интеллигента отличает полное небрежение своим внешним видом. Будто бы он равнодушен к одежде, и ему все равно что носить.
Неверно! Нет более внимательного, разборчивого и требовательного к внешнему виду социального типа, чем русский интеллигент. Максимиллиан Волошин так описал его:
…от их корней пошел интеллигент. Его мы помним слабым и гонимым, В измятой шляпе, в сношенном пальто, Сутулым, бледным, с рваною бородкой, Страдающей улыбкой и в пенснэ, Прекраснодушным, честным, мягкотелым, Оттиснутым, как точный негатив По профилю самодержавья: шишка Где у того кулак, где штык — дыра, На месте утвержденья — отрицанье, Идеи, чувства — все наоборот, Все «под углом гражданского протеста».
Поэт полагал, что этот «пасынок самодержавья» сгинул вместе со своим отчимом:
…размыкан был, растоптан и сожжен…
Судьбы его печальней нет в России.
Но глядя из 1924 года трудно было предсказать, что самодержавие советского разлива возвратится, а с ним и его негатив: интеллигент советский.
Видоизменяясь вместе с властью, мировоззрение интеллигента сохраняло главный стержень: отрицание и протест. Так, если дореволюционный интеллигент «верил в Божие небытие» и был материалистом, то интеллигент конца XX века уже вовсю молился, крестился и с вызовом пек куличи — ведь церковь подвергалась гонениям. Как только церковь возродилась и двинулась в сторону официоза с акцизами, интеллигент перебежал к меневцам. До начала 90-х интеллигент люто ненавидел коммунистов и даже обычных безвредных членов компартии, но стоило к власти придти капиталистам — готово, интеллигент уже за большевиков, оправдываясь тем, что советская власть «хотя бы о людях заботилась», и ностальгирует по рубрике «газета выступила — что сделано». Главное — протестовать против тирана, в каком бы обличье тот ни предстал, и если сейчас классического интеллигента словно бы не видно, а некоторые даже отрицают его существование, то это верный показатель того, что власть мало лютует и слабо душит.