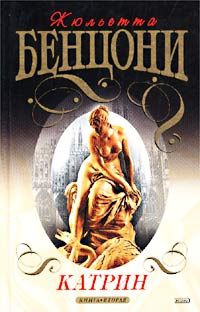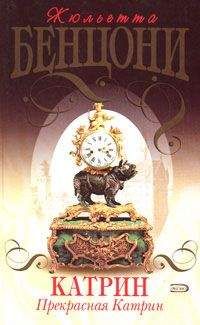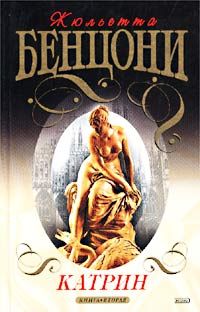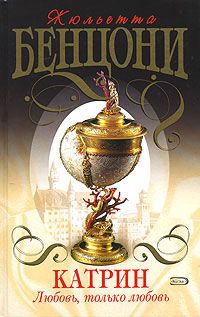Наум Ним - До петушиного крика
Подчиняясь кумовым командам, Вадим вышел, и повернул, и дальше шел, не понимая, куда его ведут, и умоляя кого-то, чтобы не в подвал: только не это, хотя и сам не мог сказать, почему так боится подвала, ведь трудно вообразить даже, что может быть хуже, чем уже было, конечно же, не может, и скорее всего боязнь подвала — это боязнь перейти для тюремщиков в иную категорию; стать для них тем, с кем уже ни о чем договариваться не надо, стать для них злостным и лишиться надежды даже, что все еще может как-то обойтись, как-то устроиться…
— Стой здесь! Лицом к стене! — дважды пролаял кум и скрылся в дверях кабинета.
Вадим там и застыл, где указано было, боясь повернуться даже, не решаясь осмотреться, где он, и только глазом косил по куску стены, да по прикуривающему рядом дубаку.
Но одновременно все эти беспокойства и волнения как бы не касались уже Вадима. Это тело его, совсем отделившись, совсем не надеясь уже на вадимово заступничество, само привычно сжималось, привычно старалось угадать нужное движение, нужный жест, подрагивало надеждой угодить и все сделать правильно, а сам Вадим незамечал ничего и не мог ничего заметить — его как бы не существовало уже; нет-нет, он, конечно, будет еще кричать, если больно, и будет умолять о чем-то и будет еще разные слова произносить, но только на самом деле и это все будет делать не он, а без его участия будет защищать себя его истерзанное тело. А он сам, — то, что в нем иногда внутри болит и мучается — душа его — уже и не присутствует при всем этом, душа его все еще ворочается там, на грязном полу у батареи, или, может, на грязном паркете в костиной гостиной, и не пережить ей этого, не выжить ей после всего, что Вадим взвалил на нее и заставил испытать… Видимо, для, каждого человека, есть свой предел унижения, и Вадим свой уже пережил…
Вадима завели в кабинет, и там да столом, колюче растопырив локти, сидел маленький полковник, начальник тюрьмы, пожелавший увидеть лично ту мразь, которая его испугала, хотя, конечно же, не испугала, а позволила продемонстрировать всем выдержку и умение молниеносно принимать верные решения. Самое же верное — не вымещать злость на этом, уже обделавшемся со страху ублюдке, чтобы никто не мог сказать, что он мстит за пережитый испуг, ведь не может он мстить такому вот недоноску, тем более что и испуга-то никакого не было; самое верное — растоптать этого мерзавца, выдавить на него все, кроме страха, покорности и раскаяния, ебтит-его-рас-туды.
Вадим кивал, бормотал что-то, старался быть понезаметнее, угодливо улыбался, снова шел за кумом, теперь уже в его кабинет, и там опять кивал, улыбался, соглашался, вовремя изображал скорбь и раскаяние и так преуспел, что заметил вдруг рядом медсестру, осматривающую его иссиненную кисть и смазывающую чем-то, от чего боль сразу отступила. Что-то Вадим подписывал, какую-то бумагу ему читали, а потом опять повели долгими переходами и всунули в тесный бокс, прозванный арестантами за свою непомерную высоту при крохотном квадратике пола стаканом. Там его наконец оставили одного.
Вадим потыкался в шершавые стены и свернулся на полу, подгибая половчее ноги — даже полусидя ноги вытянуть было некуда, да и спине больно было упираться в ноздреватые неровности стены. Вадим долго устраивался, укручивался, пока не затих, не замер, свернувшись на удивление удобно. Ничего ему сейчас не хотелось — единственно только: чтобы никто не трогал, чтобы забыли о нем, оставили в покое. Выпотрошенный пережитыми потрясениями, Вадим безучастно лежал свернутой кучей грязного тряпья, и только раскрытый глаз с удивительным вниманием рассматривал пятнышко истертого пола прямо перед собой. Здоровенный таракан вступил на эту видимую территорию, зашевелил гигантскими усами, почувствовал диковинную необычную преграду и, увидев в искривленном огромном зеркале зрачка перед собой кашмарное чудище, бросился наутек, исчезнув мгновенно из обозримого пространства.
Вадим прокрутил в себе все, что произошло с ним после освобождения из наручников, «…обязуюсь беспрекословно выполнять все требования режима….» — вспомнилось ему из только что подписанной бумаги, и он усмехнулся непроизвольно тупости тюремщиков, собирающих такие вот подписки зримым свидетельством раскаяния; а совсем уж дико упорство тех, кто отказывается подобную чушь подписать — что толпу от их упорства?.. Что толку?.. Еще какая-то бумага никак не хотела выскользнуть из памяти, что-то показывал кум, что-то связанное с женой… Ах, да — исполнительный лист — при том, как ее Вадим обеспечил, ей еще чудятся алименты отсюда? Теперь-то ясно, почему все это время не было от нее никаких известий. А он думал, что она развелась с ним не всерьез, а только чтобы конфискация была поменьше… А как он бесился, получая передачи от матери из деревни — жалкие банки консервов, которые, передавая, вскрывали полностью, и хоть ешь все сразу, хоть выбрасывай… Он ругал старуху, что она своими передачами всегда ровно к первому числу перебивает передачи жены и выставляет его консервами этими на посмешище, не передавая даже курева — всегда она боролась с вредной привычкой… Но и стыдно ему сейчас не было за эту свою несправедливую злость к матери, все чувства его омертвели, не отзываясь никак на воспоминания и на все, что осталось у него в жизни… Что толку? — равнодушно выстукивало в висках, и в этом дурацком присловье, так часто слышанном им в камере, вдруг открылся мудрый смысл: самый мудрый из всего известного. Эти два слова при монотонном их повторении не только раскрывали истину, но и вбирали в себя все тревоги и переживания, действовали гипнотически и успокаивающе… Что толку?.. Что толку?.. Что-толку-что… — и действительно ведь, какой толк во всем этом колготении, да и в жизни самой, если появляется вдруг какой-то Костя, раздувшийся на женском импортном белье, и приковывает тебя блестящей цепью к батарее?.. Что толку?.. Что-тол-ку-что-тол-ку-что-тол…
Про Вадима забыли. Обед, суета, пересменки, так и не подписанное «хозяином» постановление на карцер, оформление обоснованности вызова бригады усмирения. Кум закрутился и никаких распоряжений не оставил, и только уже после ужина в вечернем пересчете снова забегали дубаки по камерам, готовые в панике объявить и тревогу (побег). Несколько раз все камеры продола выгоняли на пересчет, потом проверили по карточкам, и определили недостающего; долго созванивались с кумом, и уже перед отбоем взмыленные всей этой нервотрепкой дубаки распахнули шипастую дверь «стакана» (чтобы не колотили по ней изнутри, какой-то остроумец придумал наварить на двери боксов сетку острых шипов). Подняли Вадима пинками, и он все никак не мог очнуться, хотя гнали его по коридорам во весь опор.
…Вадим помялся у двери камеры, стараясь не смотреть, на свесившиеся отовсюду неприязненные лица, и наконец боком, неловко двинулся к своему месту.
— Ты куда, падла? — перед ним стоял в проходе Веселый, а дальше маячил Пеца, и Вадим зажмурился, не зная, чем еще заслониться от нового кошмара.
— Не бей, — выдавил он из себя, — я не хотел… Пропусти на место, я же не нарочно…
— Во падла, во Падла, — не находил слов возмущенный Веселый.
— Ды-дай мне, — отодвинул Пеца Веселого и вплотную подошел к Вадиму. — Ты, с-сука, хату в-всю… под вилы… — Он принюхался. — На пы-параше твое м-место, — заорал он. Тут и остальные учуяли клоачный дух и углядели Вадима целиком.
— Куда прешь, вонючка, — взвился Ларек. — Вона и матрац твой у параши уже…
— От страха перед ментами уделался, пидерастюга, — выпалил в Вадима Веселый и на одно маленькое мгновение замер, приготовясь на всякий случай встретить отпор — слово было сказано, и промолчать — значит согласиться, а согласиться, значит там тебе и быть… но отпора не было. Вадим повернулся и поглядел в угол у толкана, где умещался Танька, сейчас вот высунувшийся и глаз не сводящий с Вадима.
Ворона уже распоряжался:
— Танька, приготовь напарнику местечко, и на толкан его — обмой, чтоб не воняло…
— Хавку ему выдели, — бросил Ларек. — У тебя сегодня с запасом было.
Вадим не сознавал, что происходит. Издерганное тело радовалось, что не били, не мучали его больше, наслаждалось водой, которой Танька обмывал со всех сторон. Трудно было представить даже, как бы Вадим со всем управился без ловкой заботы Таньки. Тряпки вадимовы он частью выбросил тут же в парашу, частью принялся отстирывать под той же хлещущей из трубы над толканем водой. Вадиму дал что-то из своего тряпья, и вот уже Вадим может привалиться на свой матрац, прохладно мокрый, услужливо расстеленный Танькой рядом с собой, и — главное — откуда-то из-под шконки Танька вытащил шлюмку загустевшей овсяной баланды и поставил перед Вадимом: даже желудок сжало и слезы на глаза навернулись…
— Ну вот, теперь у нас два петуха — жизнь становится веселее, — где-то у окна балагурил Веселый. А Вадим думал, откуда же появился второй петух.