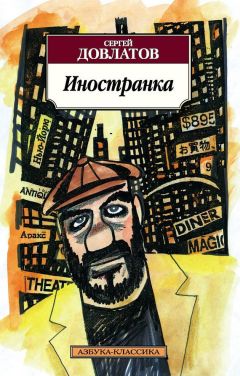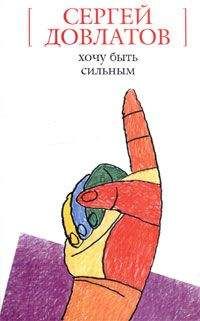Сергей Довлатов - Заповедник
— Ну все, — говорю шоферу, — условились. Высади ее на Обводном канале.
— Там мелко, — засмеялся водитель…
Я подумал — сесть бы мне тоже и уехать. А вещи привезет кто-нибудь из экскурсоводов. Вот только жить на что? И как?..
Мимо пробегала Галина. Быстро кивнула в сторону моей жены:
— Господи, какая страшненькая!..
Я промолчал. Но мысленно поджег ее обесцвеченные гидропиритом кудри.
Подошел инструктор физкультуры Серега Ефимов.
— Я извиняюсь, — сказал он, — это вам.
И сунул Тане банку черники.
Нужно было прощаться.
— Звони, — сказала Таня.
Я кивнул.
— У тебя есть возможность звонить?
— Конечно. Машу поцелуй. Сколько все это продлится?
— Трудно сказать. Месяц, два… Подумай.
— Я буду звонить.
Шофер поднялся в кабину. Уверенно загудел импортный мотор. Я произнес что-то невнятное.
— И я, — сказала Таня…
Автобус тронулся, быстро свернул за угол. Через минуту алый борт его промелькнул среди деревьев возле Луговки.
Я заглянул в бюро. Моя группа из Киева прибывала в двенадцать. Пришлось вернуться домой.
На столе я увидел Танины шпильки. Две чашки из-под молока, остатки хлеба и яичную скорлупу. Ощущался едва уловимый запах гари и косметики.
Прощаясь, Таня сказала: «И я…» Остальное заглушил шум мотора…
Я заглянул к Михал Иванычу. Его не было. Над грязной постелью мерцало ружье. Увесистая тульская двустволка с красноватым ложем. Снял ружье и думаю — не пора ли мне застрелиться?..
Июнь выдался сухой и ясный, под ногами шуршала трава. На балконах турбазы сушились разноцветные полотенца. Раздавался упругий стук теннисных мячей. У перил широкого крыльца алели велосипеды с блестящими ободами. Из репродуктора над чердачным окошком доносились звуки старинных танго. Мелодия казалась вычерченной пунктиром…
Стук мячей, аромат нагретой зелени, геометрия велосипедов — памятные черты этого безрадостного июня…
Тане я звонил дважды. Оба раза возникало чувство неловкости. Ощущалось, что ее жизнь протекает в новом для меня ритме. Я чувствовал себя глуповато, как болельщик, выскочивший на футбольное поле.
В нашей квартире звучали посторонние голоса. Таня задавала мне неожиданные вопросы. Например:
— Где у нас хранятся счета за электричество?
Или:
— Ты не будешь возражать, если я продам свою золотую цепочку?
Я и не знал, что у моей жены есть какие-то драгоценности…
Таня ходила по инстанциям, оформляла документы. Жаловалась мне на бюрократов и взяточников.
— У меня в сумке, — говорила она, — десять плиток шоколада, четыре билета на Кобзона и три экземпляра Цветаевой…
Таня казалась возбужденной и почти счастливой.
Что я мог сказать ей? В десятый раз просить: «Не уезжай»?
Меня унижала ее поглощенность своими делами. А как же я с моими чуть ли не диссидентскими проблемами?!
Тане было не до меня. Впервые происходило нечто серьезное…
Как-то раз она сама мне позвонила. К счастью, я оказался на турбазе. Точнее, в библиотеке центрального корпуса. Пришлось бежать через весь участок. Выяснилось, что Тане необходима справка. Насчет того, что я отпускаю ребенка. И что не имею материальных претензий.
Таня продиктовала мне несколько казенных фраз. Я запомнил такую формулировку: «…Ребенок в количестве одного…»
— Заверь у местного нотариуса и вышли. Это будет самое простое.
— Я, — говорю, — могу приехать.
— Сейчас не обязательно.
Наступила пауза.
— Но мы успеем попрощаться?
— Конечно. Ты не думай…
Таня почти оправдывалась. Ей было неловко за свое пренебрежение. За это поспешное: «Не обязательно…»
Видно, я стал для нее мучительной проблемой, которую удалось разрешить. То есть пройденным этапом. Со всеми моими пороками и достоинствами. Которые теперь не имели значения…
В тот день я напился. Приобрел бутылку «Московской» и выпил ее один.
Мишу звать не хотелось. Разговоры с Михал Иванычем требовали чересчур больших усилий. Они напоминали мои университетские беседы с профессором Лихачевым. Только с Лихачевым я пытался выглядеть как можно умнее. А с этим наоборот — как можно доступнее и проще.
Например, Михал Иваныч спрашивал:
— Ты знаешь, для чего евреям шишки обрезают? Чтобы калган работал лучше…
И я миролюбиво соглашался:
— Вообще-то, да… Пожалуй, так оно и есть…
Короче, зашел я в лесок около бани. Сел, прислонившись к березе. И выпил бутылку «Московской», не закусывая. Только курил одну сигарету за другой и жевал рябиновые ягоды…
Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары. Какая-то липкая дрянь заползала в штанину. Да и трава казалась сыроватой.
Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона. Как на телеэкране, проплывали облака. И даже паутина выглядела украшением…
Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видно, гармония таилась на дне бутылки…
Я твердил себе:
— У Пушкина тоже были долги и неважные отношения с государством. Да и с женой приключилась беда. Не говоря о тяжелом характере…
И ничего. Открыли заповедник. Экскурсоводов — сорок человек. И все безумно любят Пушкина…
Спрашивается, где вы были раньше?.. И кого вы дружно презираете теперь?..
Ответа на мои вопросы я так и не дождался. Я уснул…
А когда проснулся, было около восьми. Сучья и ветки чернели на фоне бледных, пепельно-серых облаков… Насекомые ожили… Паутина коснулась лица…
Я встал, чувствуя тяжесть намокшей одежды.
Спички отсырели. Деньги тоже. А главное — их оставалось мало, шесть рублей. Мысль о водке надвигалась как туча…
Идти через турбазу я не хотел. Там в эти часы слонялись методисты и экскурсоводы. Каждый из них мог затеять профессиональный разговор о директоре лицея — Егоре Антоновиче Энгельгардте.
Мне пришлось обогнуть турбазу и выбираться на дорогу лесом.
Идти через монастырский двор я тоже побоялся. Сама атмосфера монастыря невыносима для похмельного человека.
Так что и под гору я спустился лесной дорогой. Вернее, обрывистой тропкой.
Полегче мне стало лишь у крыльца ресторана «Витязь». На фоне местных алкашей я выглядел педантом.
Дверь была распахнута и подперта силикатным кирпичом. В прихожей у зеркала красовалась нелепая деревянная фигура — творение отставного майора Гольдштейна. На медной табличке было указано: Гольдштейн Абрам Саулович. И далее в кавычках: «Россиянин».
Фигура россиянина напоминала одновременно Мефистофеля и Бабу Ягу. Деревянный шлем был выкрашен серебристой гуашью.
У буфетной стойки толпилось человек восемь. На прилавок беззвучно опускались мятые рубли. Мелочь звонко падала в блюдечко с отбитым краем.
Две-три компании расположились в зале у стены. Там возбужденно жестикулировали, кашляли и смеялись. Это были рабочие турбазы, санитары психбольницы и конюхи леспромхоза.
По отдельности выпивала местная интеллигенция — киномеханик, реставратор, затейник. Лицом к стене расположился незнакомый парень в зеленой бобочке и отечественных джинсах. Рыжеватые кудри его лежали на плечах.
Подошла моя очередь у стойки. Я ощущал знакомую похмельную дрожь. Под намокшей курткой билась измученная сирая душа…
Шесть рублей нужно было использовать оптимально. Растянуть их на длительный срок.
Я взял бутылку портвейна и две шоколадные конфеты. Все это можно было повторить трижды. Еще и на сигареты оставалось копеек двадцать.
Я сел к окну. Теперь уже можно было не спешить.
За окном двое цыган выгружали из машины ящики с хлебом. Устремился в гору почтальон на своем мопеде. Бездомные собаки катались в пыли.
Я приступил к делу. В положительном смысле отметил — руки не трясутся. Уже хорошо…
Портвейн распространялся доброй вестью, окрашивая мир тонами нежности и снисхождения.
Впереди у меня — развод, долги, литературный крах… Но есть вот эти загадочные цыгане с хлебом… Две темнолицые старухи возле поликлиники… Сыроватый остывающий денек… Вино, свободная минута, родина…
Сквозь общий гул неожиданно донеслось:
— Говорит Москва! Говорит Москва! Вы слушаете «Пионерскую зорьку»… У микрофона — волосатый человек Евстихеев… Его слова звучат достойной отповедью ястребам из Пентагона…
Я огляделся. Таинственные речи исходили от молодца в зеленой бобочке. Он по-прежнему сидел не оборачиваясь. Даже сзади было видно, какой он пьяный. Его увитый локонами затылок выражал какое-то агрессивное нетерпение. Он почти кричал: