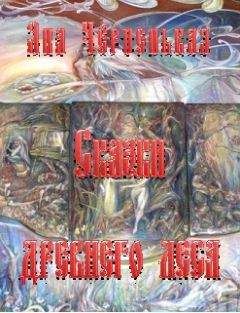Дуглас Кеннеди - Момент
Но вдруг в кабинет ворвались два медбрата. Когда я попыталась вырваться, они скрутили меня, а дежурный врач сделала укол, от которого я потеряла сознание.
Очнулась через несколько часов, привязанная к больничной койке. По боли между ног я догадалась, что они сделали со мной, пока я была под анестезией. Врач — ее звали Келлер — подошла ко мне и с улыбкой объявила:
— Мы выскребли из вас эту капиталистическую заразу. Навсегда.
В этот момент я поклялась, что когда-нибудь уничтожу эту женщину. Так же, как уничтожила Хакена. И еще я твердо решила узнать имена людей, которым отдали Йоханнеса, и тоже разрушить их жизнь. Мне страшно признаваться в этом сейчас. Но хоть я и простила Юдит — понимая, что она сделала это из-за собственной слабости, из страха, не выдержав их давления, — я отказывалась прощать тех, кто позволил системе совершать преступления. Сейчас, на смертном одре, я могу признаться: я ни на мгновение не пожалела о том, что расправилась с Хакеном. Он медленно убивал меня своей жестокостью, и я знала, что, когда поступит приказ устранить меня, он его исполнит не задумываясь. Думаю, Штази не расправилась со мной только потому, что американцы и БНД знали о моем существовании. Даже при том, что они депортировали меня обратно, мое «самоубийство» выглядело бы подозрительным. Гораздо эффективнее было сломать меня психологически. Лишить ребенка, нашего с тобой ребенка, которого я так хотела. А потом сослать в самый унылый уголок нашей унылой республики — Карл-Маркс-Штадт.
Карл-Маркс-Штадт был типичным промышленным центром. Ни своего лица, ни обаяния, ни культуры. Но там был филиал DDR Rundfunk — государственной радиостанции, — куда меня взяли редактором литературных программ. Мне нашли крохотную квартирку. Я начала встречаться с коллегой — тихим скромным парнем по имени Ганс Шигула, которого тоже выслали из Берлина, только в его случае — за пропаганду фри-джаза и еще за то, что однажды он включил в свою программу музыку Штокхаузена. Ганс был старше меня, ему было за пятьдесят, разведенный, начитанный, порядочный. Он скрашивал мое одиночество. Особенно в первое время, когда я только приехала в Карл-Маркс-Штадт и пыталась оправиться после того, что они сделали со мной в тюремной больнице. Мне было очень трудно пережить потерю нашего ребенка, и я понимала, что единственный выход — постараться вычеркнуть это из памяти.
Наверное, ты думаешь, что я ненавидела тебя за то, что ты сделал со мной. Да, были такие моменты — особенно в первые дни, когда меня вернули обратно в Восточный Берлин, и в те долгие месяцы заточения, и после насильственного аборта, — когда я действительно ненавидела тебя. Но, если честно, любовь моя, больше всего я ненавидела себя за то, что мне не хватило смелости сразу рассказать тебе все. Что делать — таково уж мое происхождение, я выросла в такой социальной среде, которая учила скрытности и не поощряла откровенность. Я всегда видела — и чувствовала — твою глубокую любовь ко мне. Но я не могла довериться тебе безоговорочно. Я почему-то думала, что, если откроется вся правда, ты обвинишь меня в предательстве и сбежишь. И вышло так, что, утаив от тебя главное — что Хакен постоянно шантажировал меня сыном, — я сама все разрушила. Уверена, что на твоем месте я бы отреагировала точно так же. И все эти годы я живу единственной надеждой, что ты не слишком страдаешь от чувства вины, хотя в каждой из твоих книг (а я прочитала их все) ты упоминаешь о том, что жизнь — это коллекция грустных воспоминаний, которые мы стараемся спрятать подальше. В твоих недавних работах я находила и намеки на то, что твой брак оказался не слишком удачным, и чувствовала, что рана нашего прошлого так и не затянулась.
А что до меня… спасибо Гансу. Он сделал мою жизнь в Карл-Маркс-Штадте почти сносной. Потом пала Стена. Как только открылась дорога на Запад, я буквально пешком дошла до Кройцберга и забрала свои дневники, спрятанные в подвале моего бывшего дома, а еще мне удалось найти блестящего адвоката по гражданским делам, Джулию Кох.
Она взялась за мое дело сразу, как только я рассказала ей всю правду про Йоханнеса, которого у меня отобрали. Думаю, Джулия решила, что мое дело будет показательным — продемонстрирует всю жестокость Штази и поможет привлечь этих подонков к ответственности. Уже через шесть недель ее неустанных разоблачений и давления на власти Клаусы — чета, которой «отдали» Йоханнеса, — были публично заклеймлены местной прессой. Это было своего рода cause célèbre[114], поскольку подключились и другие свидетели, подтвердившие, что супруги Клаусы были среди самых жестоких и мстительных следователей Штази. И тот факт, что они с радостью усыновили ребенка, насильно отнятого у женщины, ложно обвиненной в политическом преступлении, усугубил их вину… насколько мне известно, их выселили из квартиры во Фридрихсхайне, и я слышала, что они закончили свою карьеру мелкими клерками в местной налоговой службе.
А та врачиха, что сделала мне аборт и с удовольствием сообщила об этом… мой адвокат добрался и до нее. Как только ее имя было предано огласке, еще тридцать женщин — все бывшие узницы Хохеншонхаузена — подтвердили, что им тоже были сделаны насильственные аборты и даже стерилизация. В результате врач была лишена лицензии, а спустя полгода ее автомобиль упал с моста в реку под Берлином, когда она была пьяной за рулем.
Не могу сказать, чтобы я испытала бурную радость, узнав о ее смерти. Все эти люди, которые совершали злодейства по отношению к другим, должно быть, оправдывали свои поступки, прикрываясь фразами «Я всего лишь выполнял приказы», или «Мне сказали, что это необходимо для блага родины», или «Система сделала меня таким». Мы как будто верим, что, уничтожив целую расу, или поставив «антифашистский кордон», или засадив за решетку любого, кто подаст голос против системы, сможем решить проблемы своей страны. Но стены рушатся. Системы сами себя дискредитируют. Коммунистическая реальность доказала свою нежизнеспособность. А конвейер жизни продолжает свое движение вперед.
Недавно, когда я еще могла ходить, я попросила Йоханнеса отвезти меня к Бранденбургским воротам. Со времен своей молодости я помню, что Стена всегда была там, прямо перед церемониальным въездом. Отсюда мы могли видеть руины Рейхстага и зеленый уголок Тиргартена. Как все это было рядом и как безумно далеко. Запретная планета, куда вход нам был запрещен.
Потом Горбачев решил, что хватит кормить нашу маленькую республику. Все разваливалось, и центр уже не мог сдерживать это падение. И в результате…
Теперь каждый может пройти через Бранденбургские ворота.