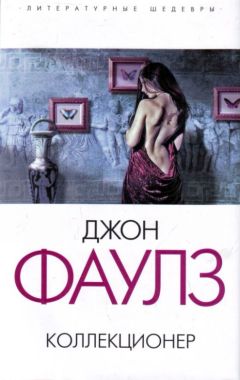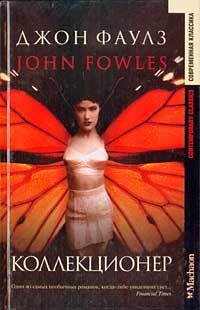Джон Фаулз - Дэниел Мартин
— Куда идёшь?
— К старому карьеру. Может, да, а может, и нет.
— А я и не знал, что тут можно пройти.
— Тут тропинка есть.
Она теребила, рвала листок, будто ей всё равно, пойду я дальше или так и буду тут стоять, разговаривая.
— А я и не знал.
— А это секрет.
Она не улыбалась, но подняла на меня глаза, и я понял — это не просто сообщение, но вызов. Я поставил велосипед поперёк дороги.
— Можно мне пойти с тобой?
Она пожала плечами:
— Как хочешь.
— Только велосипед спрячу.
Она кивнула. Я поспешно затолкал велосипед в кусты по другую сторону просеки, потом снова пересёк её и вскарабкался туда, где стояла Нэнси. Не успел я подойти, как она повернулась и зашагала вперёд, меж деревьями, туда, где из земли футов на двадцать вверх вертикально вздымались скалы; потом мимо крутых склонов, источенных устьями печей, давно задушенных осколками камня. Нэнси задержалась там, где скала немного отступила, оставив узкий крутой проход наверх. Она остановилась и пригладила платье.
— Давай лезь первый, — сказала она.
Я полез первым. Последние пару ярдов, у самой вершины, было трудновато — пришлось подтягиваться, ухватившись за корень дерева. Оказавшись наверху, я повернулся и протянул ей руку. Нэнси ухватилась за неё, и я вытянул девочку наверх, подумывая, не решиться ли задержать её руку в своей. Но она отстранилась и снова зашагала вперёд и вверх, по более пологому, поросшему густыми деревьями склону. Глянув сквозь листву, я увидел далеко внизу ферму, услышал лай пастушьей собаки и голос кого-то из близняшек, её успокаивающий. Было безветренно. Платье Нэнси — розовые полоски и букетики роз на спине; белокурые волосы. На ней были разношенные чёрные туфли — школьные. На босу ногу. Я чувствовал, что меня вводят в сад Эдема.
— Это не настоящий мой тайник.
— А он где?
Она небрежно, на ходу, указала куда-то за ферму:
— А там, наверху, на той стороне. — Потом добавила: — Когда маленькая была.
Я хотел ещё что-нибудь сказать, чтобы она ещё говорила, но ничего умного придумать не мог, а она быстро шагала к деревьям на восточном склоне холма над долиной, у самого гребня; по правую руку мне виден был выгон в лучах вечернего солнца. Всё это было странно, совсем не походило на прогулку, как будто мы шли куда-то с определённой целью. Наконец она свернула в сторону выгона, и вот мы уже пробираемся сквозь зелёные заросли папоротника. По-прежнему она шла впереди. Совершенно неожиданно оказалось, что мы стоим на краю карьера и смотрим прямо на деревню, далеко за долиной. Это было поразительно — неожиданный простор, открытость, замечательный вид. А по отвоёванному у папоротников дёрну бегали кролики. Нэнси показала рукой:
— Смотри, вон она, церковь.
Но церковь меня не интересовала.
Она прошла немного вперёд, туда, где с бровки карьера можно было спуститься по поросшему густой травой склону вниз, на самое дно, и принялась собирать васильки и очанки. Потом вдруг опустилась на колени у группки розоватых цветов с похожими на звёздочки головками. Дэниел сел рядом, потом прилёг, опершись на локоть. Он чувствовал себя невероятно неуклюжим, косноязычным, неловким, в то время как она в совершенстве владела собой; он всё ещё подыскивал слова, не зная, что бы такое сказать, такое, чтобы…
— Толку от них всё равно не будет. Они дома не раскроются.
— А моему отцу они нравятся.
— Это васильки — центаурии.
— Ду́шки. — Её синие глаза на миг встретили его взгляд и снова потупились. — Мы их так зовём.
Это старинное название не показалось ему ни странным, ни неточным (надо было бы сказать «душки́»); но он был смущён. Это его интеллектуальное превосходство… он ведь так старался не задаваться, и зачем только он вылез с настоящим названием, хвастун несчастный… любая неловкость постоянно грозила обернуться обидой и, словно в доказательство этого, Нэнси перестала рвать цветы и села на траву; минуту спустя расшнуровала туфли, сбросила их с ног и пошевелила в короткой траве пальцами.
Дэниел сделал ещё одну попытку:
— Я уж было подумал, что разонравился тебе.
— А кто сказал, что ты мне нравился?
— Ну, после того дня.
— Какого ещё «того дня»?
— Ты ведь ему что-то сказала тогда. — Дэниел сорвал несколько травинок прямо перед собой. Ох уж эти девчонки, до чего они невозможные! И зачем только у них босые ноги? — Когда он пытался мной командовать.
— Показушничает больно. Думает, он всё знает.
— Ты это ему сказала?
— Может, да, а может, и нет.
— Просто он больше к этому привык, чем я. Вот и всё.
— Привык, чтоб всё делалось, как он хочет.
— А я думал, он тебе нравится.
Она только фыркнула, ничего не ответив; сидела, не сводя глаз с босых ног, словно они были ей гораздо интереснее, чем Дэниел. Он совершенно растерялся: то она говорила одно, то другое. Казалось, она чего-то ждёт, словно кто-то ещё должен был вот-вот подойти и присоединиться к ним. Словно ей скучно. Он сказал — очень тихо:
— Ты мне ужасно нравишься.
Она вдруг улыбнулась ему, шаловливо, лукаво — промельк давнего озорства школьных дней.
— Вот папаше твоему пожалуюсь!
— Правда нравишься. — Он чувствовал, что щёки его горят. Нэнси снова принялась разглядывать свои босые пальцы.
— А тебе что, совсем всё равно, что ты мне нравишься?
— Может, и всё равно. А может, и нет.
— Ты меня и по имени даже никогда не зовёшь.
— Так ведь и ты тоже.
— Нет, зову. Вчера, например.
— А когда мы одни, не зовёшь.
— Да я никогда не знаю, что можно говорить, а что нет. — Он помолчал. — Чтоб ты не подумала, что задаюсь.
— Просто ты так иногда говоришь… — Помолчала и добавила: — Да я знаю, ты иначе не можешь.
Воцарилось молчание. Пронизанный зеленью вечерний воздух, жужжание насекомых на неостывшем каменном склоне за их спинами. Нэнси вдруг перевернулась и улеглась на живот, согнув в локтях руки, оперлась подбородком на ладони; полежала так, потом протянула руку и сорвала веточку тимьяна. Прикусила. Повернулась к Дэниелу лицом. Их разделяли всего шага три. Изогнутые брови, загадочный, лукаво-простодушный рот. Синие глаза. Словно цветы вероники — застенчивые и дерзкие, полные вызова и сомнений.
— Спорим, я тебе не по правде нравлюсь.
Он потупился.
— Да я только об одном и думаю. Как бы тебя увидеть. Вдруг тебя не увижу. Как вчера. Просто ненавистный был день вчера.
— А мы тебе подарок покупали.
— Ну да?
Нэнси улыбнулась, увидев, как он потрясён и чуть ли не обижен.
— Потому как ты нам всем по сердцу пришёлся. — Она снова сжала зубами веточку тимьяна. — Только это секрет. Никому не проговорись, что я тебе сказала.