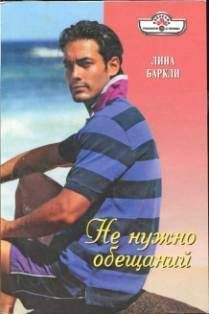Норман Мейлер - Нагие и мёртвые
Уилсон ощущал болезненную пульсацию в ране. Мускулы живота ослабли от боли. Его всего лихорадило. От жары руки и ноги сделались свинцовыми и причиняли страдания, в груди и горле скопилась кровь, а во рту все совершенно пересохло. Каждый толчок носилок действовал на него как удар. Он чувствовал себя так, как будто в течение многих часов боролся с человеком намного сильнее себя, и теперь силы его иссякли. Он часто был на грани потери сознания, но каждое неожиданное сотрясение носилок вызывало жгучую боль, и он снова приходил в себя, с трудом сдерживал рыдания.
Временами он замирал и стискивал зубы в ожидании очередною толчка. И когда происходил толчок, ему казалось, что по воспаленным нервам прошлись напильником. Ему чудилось, что в испытываемой им боли виноваты люди, несущие носилки, и он ненавидел их. Такое же чувство на какой-то момент испытывает человек к предмету, о который ушибает ногу.
— Сукин ты сын, Браун.
— Заткнись, Уилсон.
Браун шатался и спотыкался на каждом шагу, чуть не падал.
Пальцы, сжимавшие ручки носилок, медленно разжимались, и, когда он чувствовал, что носилки вот-вот выскользнут из рук, он кричал: "Стой!" Опустившись на колени возле Уилсона, он пытался отдышаться и растирал руку онемевшими пальцами.
— Потерпи, Уилсон, мы делаем что можем, — задыхаясь говорил он.
— Ты сукин сын, Браун! Ты же трясешь меня нарочно.
Брауну хотелось закричать либо ударить Уилсона по лицу. Язвы на его ногах открылись, кровоточили и всякий раз, когда он останавливался, причиняли нестерпимую боль. Дальше идти не хотелось, но он видел, что товарищи смотрят на него, и говорил: "Пошли, пошли, ребята".
Так они тащились под горячими лучами полуденного солнца в течение нескольких часов. Постепенно и неотвратимо угасали их решимость и воля. С огромными усилиями они двигались в этом мареве, связанные друг с другом невольным союзом бессилия и злобы.
Когда один из них спотыкался, остальные ненавидели его: ноша сразу же становилась тяжелее, а стоны раненого выводили из состояния апатии и подстегивали словно кнутом. Им становилось все труднее и труднее. Порой от приступов тошноты глаза застилала мутная пелена. Темнела земля впереди, учащенно билось сердце, рот сводило от горечи. Они в оцепенении механически переставляли ноги, страдая больше Уилсона. Каждый был бы рад поменяться с ним местами.
В час дня Браун велел остановиться. Ноги его настолько одеревенели, что каждую минуту он мог рухнуть на землю. Они поставили носилки с Уилсоном, а сами распластались рядом и жадно хватали ртом воздух. Вокруг дышали зноем раскаленные холмы, попеременно подставлявшие солнцу свои склоны. Воздух, казалось, остановился. Время от времени Уилсон что-то бормотал или просто вскрикивал, но никто не обращал на него внимания.
Отдых не принес облегчения. И если раньше благодаря огромным усилиям удавалось преодолевать усталость, то теперь они уже ничего не могли с собой поделать. Настало полное изнеможение. Они слабели с каждой минутой, к горлу подступала тошнота, они готовы были вот-вот потерять сознание. Постоянно повторявшиеся приступы озноба сотрясали все тело, и тогда казалось, что жизнь покидает их.
Спустя какое-то время, примерно час, Браун сел, проглотил несколько соленых таблеток и выпил почти половину воды из своей фляги. Соль неприятно заурчала в желудке, но он почувствовал некоторое облегчение. Когда он встал и пошел к Уилсону, ноги дрожали и казались чужими, как у человека, вставшего с постели после долгой болезни.
— Как ты себя чувствуешь, парень? — спросил он.
Уилсон пристально посмотрел на него. Ощупывая пальцами лоб, он снял намокшую повязку.
— Вам лучше оставить меня, Браун, — прошептал он слабым голосом.
Последний час, лежа на носилках, он то терял сознание, то начинал бредить, и теперь силы покинули его. Ему не хотелось, чтобы его несли. Он хотел, чтобы ею оставили здесь. Неважно, что с ним будет. Единственное, о чем он думал, чтобы его больше не трогали, чтобы он перестал бояться носилок, которые заставляли его невыносимо страдать.
Браун явно поддавался этому искушению. Он поддался ему настолько, что даже боялся поверить Уилсону.
— О чем ты говоришь, парень!
— Оставьте меня, ребята, ну оставьте же. — На глазах Уилсона навернулись слезы. Безразлично, как будто речь шла вовсе не о нем, он покачал головой. — Я задерживаю вас, оставьте меня здесь. — Вновь все перепуталось в его сознании. Ему казалось, что он находится в разведке и отстает от отряда из-за болезни. — Когда человек собирается вот-вот сдохнуть — он обуза для других.
К Брауну подошел Стэнли.
— Что он хочет? Чтобы мы оставили его?
— Ну да.
— Ты думаешь, надо это сделать?
Браун возмутился.
— Проклятие, Стэнли! Что с тобой, черт возьми? — Но сам он вновь почувствовал искушение. Им опять овладела страшная усталость. Не было никакого желания идти дальше. — Ладно, ребята, пошли! — крикнул он. Потом увидел спавшего невдалеке Риджеса, и это привело его в бешенство. — Вставай, Риджес! Когда ты перестанешь валять дурака?
Медленно, лениво Риджес проснулся.
— А что, отдохнуть нельзя? — откликнулся он. — Подумаешь, человек решил немного отдохнуть… — Он встал, застегнул ремень и пошел к носилкам, — Ну, я готов.
Они потащились дальше. Отдых не пошел им на пользу. Уже но было той настойчивости и упорства, которые гнали их вперед. Теперь, пройдя всего несколько сот ярдов, они чувствовали такую же усталость, как перед привалом. От палящих лучей солнца кружилась голова, от слабости они валились с ног.
Уилсон стонал беспрерывно, и это причиняло им еще большие страдания. От слабости их мотало из стороны в сторону. При каждом стоне они вздрагивали и чувствовали себя виноватыми. Казалось, что боль, которую терпит Уилсон, передается им через ручки носилок. Первую половину мили, пока еще хватало сил разговаривать, они постоянно переругивались. Любое действие одного вызывало раздражение других.
— Гольдстейн, какого черта ты не смотришь себе под ноги? — кричал Стэнли после неожиданного рывка носилок.
— Смотри лучше сам!
— Ну чего вы все грызетесь, лучше бы держали как следует, — ворчал Риджес.
— А-а-а, заткнись! — кричал Стэнли.
Тогда вмешивался Браун.
— Стэнли, ты слишком много треплешься. Ты бы лучше за собой смотрел.
Ожесточенные друг против друга, они продолжали свой путь.
Уилсон вновь стал бормотать, а они мрачно его слушали.
— Ребята, ну почему вы меня не оставите? Человек, который не может поднять своей руки, ни черта не стоит. Я только задерживаю вас. Оставьте меня — вот все, о чем я прошу. Я как-нибудь сам справлюсь, и нечего вам беспокоиться. Оставьте меня, ребята….
"Оставьте меня, ребята…" — эти слова пронзали насквозь, и казалось, что пальцы вот-вот расслабнут и отпустят носилки.
— Что за чепуху ты несешь, Уилсон! — сказал Браун, задыхаясь.
Однако каждый из них вел упорную борьбу с самим собой.
Гольдстейн споткнулся, и Уилсон закричал на него:
— Гольдстейн, негодяй, ты сделал это нарочно! Я видел, сволочь! — В сознание Уилсона запало, что сзади с правой стороны носилок идет человек по фамилии Гольдстейн, и, когда носилки наклонялись в эту сторону, он выкрикивал его имя. Сейчас это имя вызвало в памяти Уилсона ряд ассоциаций. — Гольдстейн, паршивый ты человек, не захотел тогда выпить. — Он слабо хихикнул. Тонкая струйка крови показалась в углу его рта. — Черт возьми, старина Крофт так и не узнает, что я обдурил его на бутылку.
Гольдстейн сердито покачал головой. Он мрачно ступал вперед с опущенными вниз глазами. "Они никак этого не могут забыть, никак", — повторял он про себя, чувствуя неприязнь ко всем окружающим его. Разве ценит этот Уилсон все, что они делают для него?
Уилсон опять откинулся на носилках, прислушиваясь к коротким сдержанным стонам своих товарищей. Они надрывались из-за него. На какой-то момент он отчетливо понял это. Затем эта мысль исчезла. Однако где-то глубоко в его сознании она осталась.
— Ребята, я все время о вас думаю, о том, что вы делаете для меня. Ну зачем вам возиться со мной? Оставьте меня, вот и все. — Не услышав ничего в ответ, он возмутился: — Проклятие! Я же сказал вам, оставьте меня. — Он ныл как капризный ребенок.
Гольдстейну хотелось бросить носилки. "Уилсон ведь сказал, чтобы мы оставили его", — думал он. Но потом слова Уилсона разжалобили его. При отупляющем зное, в состоянии полного изнеможения он не мог ясно думать, и в его голове проносились нестройные мысли: "Нельзя его бросать, он ведь добрый парень…"
Потом Гольдстейн уже ни о чем не мог думать, кроме усиливающейся боли в руке, которая мучила его и отдавалась в спине и натруженных ногах.
Уилсон провел кончиком языка по сухим губам.