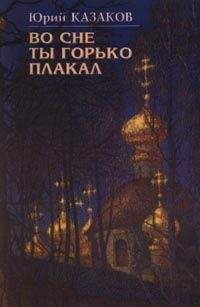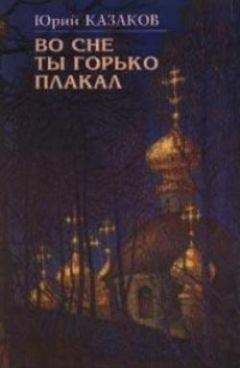Поедемте в Лопшеньгу - Казаков Юрий Павлович
Конечно, легко сказать: поднимемся до вершин литературы! Кто откажется… Кто скажет: не хочу? Но все мы по одежке протягиваем ножки, так стоит ли нам хлопотать особенно? Не есть ли все наши призывы к совершенствованию звук пустой и сотрясение воздуха?
Лучше, чем я могу, я не напишу, разумеется, но вера в высшее предназначение писателя, постановка важных вопросов, серьезнейшее отношение к задачам литературы даже и при малом таланте помогут мне стать писателем настоящим. Так что напомнить друг другу об ответственности перед талантом и перед словом никогда не лишне.
В. Камянов хочет видеть нашего современника в литературе «личностью духовно значительной». Я тоже. Думаю, что этого же хотят и писатели, упомянутые в статье «Не добротой единой…».
Что же нам мешает? Наша робость? Время? Отсутствие душевного опыта или недостаточный талант? Или, в самом деле, засилье бедной лирической прозы?
На этот вопрос так же трудно ответить, как и на вопрос, почему Толстой был эпическим писателем, а Чехов — лирическим.
Итак, подождем, потерпим. А пока что будем принципиально уважать лирическую прозу!
«Литературная газета», 1967, 27 декабря
ЕДИНСТВЕННО РОДНОЕ СЛОВО [6]
…— Моя мама, хоть и прожила жизнь в городе, родом из деревни. И когда еще живы были ее братья и собирались все вместе здесь, в Москве, то тут же в разговоры их начинали проскальзывать деревенские словечки и выражения. Позднее каждое лето я отправлялся в деревню, в Горьковскую или Ярославскую область, и постоянно ловил себя на мысли, что все это уже видел: забыл, а тут вспомнил.
Я когда-то Далем увлекался. Боже мой, думалось, сколько слов перезабыто! А попадешь, как у нас говорят, на глубинку, тут не только Даль… Недаром наши фольклористы до сих пор ездят «за словом».
И вот — я на Севере. Окунувшись в поток настоящей, живой речи, я почувствовал, что родился во второй раз. Бога ради, не воспринимайте это как красивость. В жизни каждого человека есть момент, когда он всерьез начинает быть. У меня это случилось на берегу Белого моря, терпкого от водорослей, от резкого, непривычного, неповторимо морского запаха. В этих краях каждое слово обживалось веками.
Смотрите, как точно (Юрий Павлович листает «Северный дневник»):
«— Первый тюлень, который родился, дите, на ладошке поместится, — это тебе зеленец… А потом он белеет, шкурка-то белеет, и называется тогда белёк…
Потом пятнашки идут по ней, по тюлешке-то, и это у нас серка, серочка…
А на другой год, тюлень-ти, большой-большо-о-ой… И называется серун… А на третий свой год самый настоящий лысун. Понял ты? Не серун — лысу-ун! Лысун, а самка — утельга».
Зеленый — не цвет, а примета, еще и сказать-то нечего, только обозначить ласково — зеленый, и возраст — птенец. А потом белёк — как малёк. И вот уже: серка, серочка — свое, родное, изгибающееся в руках. Уже личность, а заматерел — и лысун. Не просто тюлень-самец. А вот самка — утельга, нежнее, беззащитнее…
Здесь о погоде говорят — «отдавает». Это конкретно: отпускает, как грехи отпускает, и можно снова идти: в море, берегом — за добычей. А о дюнах говорят: «угорья», «у-горья», почти горы… Но вот интересно: в Новгородской области, на прародине нынешнего северного языка, говорят теперь совсем иначе, более на общерусском, если можно так выразиться.
— И в городских ваших рассказах речевой поток скорее новгородский, чем беломорский.
— Это, кажется, неизбежно. Островки, сохранившие для нас неприспособившийся язык, — глухие, трудно доступные деревни с их различными наречиями, от мягкого южного, до сурового сибирского. А «городское эсперанто», на котором все и со всеми могут общаться, — символ индустриального города. Конечно, никто не спорит, такой язык удобней, экономней… Без лишних затрат. Но они-то и были главным в общении.
Впрочем, язык живет по законам времени. И в том, что он стал автоматизированным, своя правда. Хоть это и обидно. Сами посудите: вот идет человек по городу, идет своей улицей, открывает дверь своим ключом… и попадает — в чужую квартиру. «Ирония судьбы…», не правда ли? Теперь представьте телефонный разговор: голос вроде знаком, слова обычные, и смысл — как всегда. Поговорили, а потом выясняется: не вам звонил человек. Вот и сюжет для небольшого рассказа, слегка фантастического, правда…
И все-таки, то, что в жизни разделено, — язык города и язык деревни — в литературе может синтезироваться. Я не ощущаю резкого языкового различия между своими деревенскими и городскими рассказами, потому что источник их тот же: чувство, настроение, впечатление. И слово как некий объем должно вмещать запах, цвет, движение.
— Юрий Павлович, на упомянутых вами островках неприспособившегося языка выросла целая литература — «деревенская проза». И, завидев ее рождение, сразу же заговорили о том, что наш нынешний обиходный язык по-прежнему выразителен и разнообразен, по-прежнему индивидуален. Иначе откуда бы такое языковое богатство?
— Да нет, для меня современный язык безусловно усреднен. А стилевое разнообразие — от мастерства писателя, от великой его способности оживить слово. Но только — настоящего писателя. Десятки же книг написаны будто одной рукой — нивелированным языком и по его правилам: удобно, экономно, без лишних затрат. То же самое получается и на основе языка местного самобытного, когда он искусственно обыгрывается.
— А вам не кажется, что язык «деревенской прозы» намертво привязан к определенной местности даже в том случае, когда не надуман и писатель чувствует на этом языке? Не обрекает ли местный язык писателя на провинциальность?
— Ну, это не о настоящем таланте. Шесть страниц нового рассказа Лихоносова — зрелая проза. О Распутине заговорили с первой же его крупной вещью. И иного языка, кроме деревенского, я у них не представляю. Или Бунин. Ведь он писал об Орловской губернии, в которой провел детство. И жестокость его прозы — от особой, жестокой нищеты Орловщины. И бунинская деревня из нее. Хотя, увиденная его глазами, она стала символом всех деревень России.
— Да, но язык Орловской губернии отражался в языке бунинских героев; авторская же речь (то, что вы однажды назвали — «ремарками») строится по иным законам. И не может быть привязана к какой-либо местности.
— В этом-то вы правы, конечно. Все же хороший рассказ похож на театр: и без ремарок должно быть понятно, кто, что и почему в данный момент говорит. А там лишь добавить «текст от автора», всю собственно изобразительную сторону сюжета. Для этого существует испытанный литературный язык. Однако почему же не допустить возможность стилизации, когда смешение речи автора и персонажа задано определенной целью, творческой «сверхзадачей»? Для произведений, построенных на иронии и сарказме, стилизация необходима. И Зощенко без своей «корявости» — не Зощенко. А ведь он был превосходным стилистом. В свое время попробовал написать еще одну повесть Белкина. Представьте себе, написал: точно воспроизвел пушкинскую стилистику, некую таинственность сюжета… Или — распутинская стилизация, вы послушайте (Юрий Павлович снимает с полки синий томик — и наугад из «Живи и помни»):
«Каждый пойманный ельчик, пескарь, а пуще того — хариус незамедлительно, еще живой, доставлялся на столы и прыгал на них, то заскакивая в чашки, то обрываясь на пол. Окна распахнули, на подоконнике наяривал на всю ивановскую патефон…»
Понимаете, это же кадр. На одном дыхании, залпом! Ни слова чужого. И патефон «наяривает», ведь «играть-то» ему никак нельзя, потому что — изба, а в ней жаркие, полные плечи, и стаканы граненые, и — радость. Настоящая, безыскусственная. И слово, единое на рассказчика и героя, дыхание в унисон, для меня понятно и оправдано.