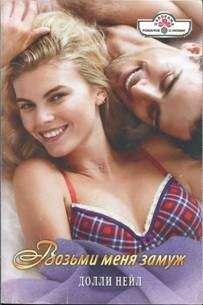Александр Терехов - Каменный мост
– Командир, уважаемый… А вот тут написано, что пятнадцать кило рыбы входит в стоимость путевочки.
А то шо сверху – карп по шестьдесят рублей кило, а белый амур по соточке – что: взвешивать на выходе?
– Ты сначала поймай, чайник! – посоветовал Боря, и навьюченные туристы после мгновений гневного сопения убрались вниз, на причал, и оттуда со скрипом отвалила лодка.
Боря переместился к стенду «Насадки животного происхождения»:
– Умерщвляют кузнечика легким ударом по голове. Ножки и крылышки отрывать не следует. Понял?! – Он все время орал, просто не останавливался.
– Шестой коттедж. Заказ на Миргородского.
– Ага. Есть такая бронь. Оплачивайте и ждите лодку.
В лодке Боря заткнулся, словно из него вынули аккумулятор, – пролез первым и уселся на носу и что-то не стесняясь утирал из-под очков – мы с Гольцманом устроились на корме лицом к черному плащу, к перевозчику, пареньку-азиату, тот греб, часто оглядываясь, высовывая плоскую морду из капюшона, чтобы не махнуть мимо дальнего причала под цифрой 6 – двух досок на колышках, – там, где озеро сужалось, мелело и на заболоченном берегу суховато шелестели высоченные сивые камыши, по воде плыли семена и хотелось, как когда-то, опустить руку в текучую воду и раздвинуть пальцы кленовым листом. Перевозчик бросил грести, обождал и зацепил причал когтистой рукой и подтянул, разворачивая лодку, причаливая боком, взглянул на нас: все. Мы полезли.
– Отец, – схватил Боря перевозчика за плечи, жадно оглядывая. – Запомни – Борис Антонович Миргородский! Псевдоним Марио. Шарикоподшипниковская, восемь. Квартира семь. Повтори! Передай командованию части семьдесят пять тысяч триста пятьдесят шесть… Будучи окружен противником, я… Нет! Отставить. Магазин «Рибок» на площади Восстания, спросишь Аллу… Передай: он любил вас… И больше ни слова, слышишь? Нет! – И спрятался за ладони. – А старики родители? А иждивенцы до двенадцати лет? Бо-оже… Передайте: я болел за «Локомотив»! Красно-зеленая кровь, – отмахнулся в отчаянии и косолапо полез следом за нами, сильно раскачивая лодку.
В домике Гольцман потрогал радиатор: не топят – трогал, узнавая, деревянные стены, оконное стекло, опустился на кушетку и жалко взглянул на меня. Ему не хочется переодеваться. А что это изменит?
– А ничего, что окна пластиковые? – кружил за спиной дежурного Боря, дежурного только разбудили, он забрасывал на шкаф свернутый матрас и открыл окошко проветрить кислятину. – Я видел телепередачу: от пластика даже мухи дохнут, – и уселся разуваться, придерживая бок – потащит, что ли, с собой трубку?
Дежурный вышел покурить. Я видел из окна: поплескался под рукомойником, отлил под елками, где в прошлом году перли из земли маслята. Торопливо, с Борей наперегонки, я разделся до трусов и влез, выбирая нужное из барахла, кучей вываленного на пол, в темно-синие бриджи с малиновым кантом, исподнюю рубаху, темно-синюю однобортную тужурку – сверкнули серп-молот и эфес меча на рукаве – и перед зеркалом нахлобучил фуражку с крапивным околышем и малиновым кантом. Боря не отставал и набросил поверх формы шерстяной серый плащ-реглан и прошелся взад-вперед, грозно посматривая в зеркало – и все так же придерживая что-то на боку.
– Можно я не буду переодеваться? – взмолился Гольцман.
– Хотя бы плащ и фуражку. Иначе нас не поймут.
– Газетки нет с кроссвордом? – дежурный вернулся и устрашающе зевал. – А на том берегу уже карпов таскают… – Он подошел к зарешеченной лифтовой шахте и ткнул в кнопку, лебедки взвыли, канаты поползли, и тишины уже никогда… – Да бросайте вещи так, я на месте, если выйду – запру. До скольки у вас? До четырнадцати ноль-ноль. – Он для вида полистал путевку; повалится спать, как только проводит, скотина, а должен сторожить, на случай… Выйти бы глянуть: рассвело? Но держит чужая одежда, швы, тесные прикосновения ткани, права не имею, я служу. Боря метался, как загнанная крыса, делая вид, что разнашивает форменные ботинки, Гольцман водрузил фуражку на седые кудри – а мог бы подстричься, ведь знал – и странно вырос, выпрямился и вдруг взглянул в меня пустым, сильным взглядом – вот таким он был, такими они были, майоры госбезопасности…
– Давай, давай… – подгонял дежурный лифт. – Ну, дава-ай…
И все равно – вздрогнули, когда показалась допотопная дырявая крыша лифтовой кабины, выросла, подравнялась и с грохотом остановилась. Решетчатая дверь (всегда я запоминаю черную круглую ручку), деревянные створки – бегом, словно в игре, и надо первым успеть, словно может уехать, и Боря, придерживая рукой бок, и Гольцман – в освещенную коробочную тесноту, на истоптанный линолеум. Почему так спешим… Надо вспомнить, подумай. Работники посольства, служащие аэродрома, чтобы…
– Ты там нас откопай, если что! – крикнул с детским стеснением от дерзости Боря дежурному и, извиняясь, мне сморгнул: да ладно тебе…
– Поехали. – Деревянные створки сошлись посреди, зарешеченная дверь, и, глядя куда-то вверх, словно высматривая команду в небе, дежурный – нажал… и я зажмурился, словно мы сорвемся и упадем, долго и страшно пролетев в пустоте. Человеческий утренний свет коротко мигнул и пропал, мы без задержки опускались внутрь земли в зыбкой горсти дрожащего электрического сияния, равномерно мигавшего, отмеряя время или глубину. Боря, будто вспомнив забытое, поерзал, опять прижимая бок, а потом ни на кого не глядя выудил из-под плаща пистолет ТТ с рифлеными деревянными щечками на рукоятке и поместил в брючный карман.
– Зачем ты взял?! – я хватанул Борю за плечо (кабина качнулась), пихнул в стену: пьяная тварь! размозжить эту костлявую близорукую падаль! – Я же сколько раз говорил! Ты нас всех там оставишь!
– Да па-шел ты! – Боря отпихнул мои руки и поправил фуражку. – Дядя Боря знает, что делает. Прошлый раз ты тоже говорил, а если бы дядя Боря поехал с пустыми руками? Не ори, понял? Я старше тебя по званию. Псих. Дебил! Сволочь!!!
За стенами кабины перестали ползти краснокирпичные своды, теперь, светлея и темнея, шершаво мелькала глина и порой на стекло брызгала и сочилась вода – мы опускались на дно, и говорить уже не о чем, тошнило, дрожали экзаменационно колени и ныло, как перед дракой, в животе; еще опускаться долго, я знаю, и нельзя думать, как глубоко и как легко сдвигается земля – может сдвинуться следом; мы опускались, мигал свет, я замер, сжался, уснул, перестал слышать, я уже кончился – мне жалко чего-то? – посреди глубокой воды, в пустоте я перестал грести и обернулся на берег, чуть приподнявшись, опершись на плавник: ничего не жалко, себя не жалко, можно уходить, не болит; кабину стало потряхивать, и она с хрустом остановилась, едва заметно перекосившись, я успел подумать: застряли, поймали нас пружины, хотя уже слышал наружные голоса: Мексика. Боря, пытаясь начать первым, опередить еще невидимых, толкнул кулаками деревянные створки и впустил паровозное пыханье и резкие железнодорожные гудки (вот и пришлось вспомнить: с детства боюсь, видно, шел однажды мимо отцовского депо и вдруг за спиной…) и жаркий, не наш воздух – но я смотрел только на чужой синеватый асфальт, под ноги, на Борины шагающие каблуки, не разбирая смысла в гомонящих голосах, – нет неба… Мы вышли под перепончатым вокзальным неохватным куполом на асфальт, прорезанный канавами железнодорожных парных путей, к тупикам – не оглядываться на лифт, никто не должен понять, что мы отступим отсюда. Боря хмуро кивал очкарику с красивейшей каштановой шевелюрой – высокий парень в теплом рыжем пиджаке с накладными карманами, сероватый, как с пепельной фотографии, склонялся к Боре, сжав в руках блокнот и чернильную ручку, однообразно, словно задавая один и тот же вопрос, Боря набычился, вслушиваясь – другим, стальным куском, и я расправился, и вырос: ну что, твари? – правда сыщется, и вера не напрасна. На платформах стояли люди, битком, почти не видно асфальта – столько людей, тепло одетые по жаре, шляпы, шляпки, пальто, дети на руках, бегающие дети, горы чемоданов и узлов… Я косился на старую одежду, на незнакомые, несуществующие, давно исчезнувшие впалощекие лица, чтобы не глядеть на детей, – кричали, лопотали только дети, а оставшиеся, выросшие люди кричащими глазами смотрели на наши плащи и фуражки, с трудом освободив нам место – пятно пустоты, пятясь от каждого нашего шага. Пыхтели паровозы с железными нерусскими номерами и серебряными профилями на чумазых мордах, какая-то тварь вразнобой запускала гудки и сирены – паровозы стояли на каждом пути, уткнувшись в тупики, без вагонов, между рельсов я не заметил голубей, мусора и травы – образцово тут, только асфальт и вытравленная мазутом земля. Я вставал на носочки (и ближняя часть толпы с неясным охом оглянулась: куда он…), но так и не увидел, есть ли выход рельсам, уходят ли наружу? перепончатая стена глухо опускалась и смыкалась. Чего они ждут? какого хрена собрали их? – мы приклеились к Бориной темно-синей спине, Боря слушал очкарика, не снимая руки с брючного кармана, и с неприятной гримасой озирался на толпу, людские стены, на дюжину встречавших близнецов в плащах, обнаживших головы, стоявших тесней, решился и украдкой показал парню на свое ухо: не слышу, надо куда-то отсюда; и парень горячо закивал и шлагбаумом выставил длиннющую руку – в подземный переход. Боря (как ему не хотелось упускать лифт из вида) осторожным шагом двинулся по ступенькам вниз, с нами штатские еще… одни мужчины, они взволнованно взглядывали в наши лица, кивали и делали какие-то знаки, словно не умея по-русски. Я смотрел только вперед и слушал, как гудят паровозы и пыхает пар, коридором мы прошли, убыстряясь до решетчатой двери, в каморку, где письменный стол и пара табуреток и портрет незнакомого человека – кто это? Уже ясно: парень говорил по-русски, уже проступали отдельно знакомые слова, только не складывались во что-то знакомое в целом. Боря вдруг – стоп! – и резко повернулся к сопровождающим: