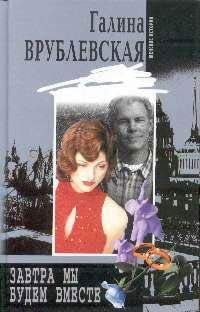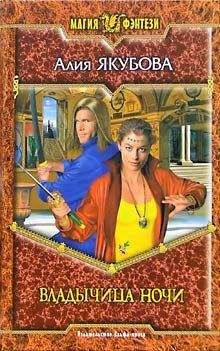Юрий Герман - Я отвечаю за все
Голос у него был мертвый, без выражения. Или это опять шумело у нее в ушах, как все дни после избиения?
— Что говорить?
— Все. Я должен разобраться.
Она взглянула на него. Он сидел на белой табуретке, уперев руки в колени. Колени у него были острые, сапоги кирзовые, как в войну, с широкими низкими голенищами. И локти были острые. Худой, неухоженный, угрюмый человек. Таких тоже она встречала, обойденных жизнью. И кажется, еще калека? Она всмотрелась: бурые пятна и свороченное, искалеченное ухо. И руку он как-то странно держит. Разве у них служат инвалиды? «Мог бы получать пенсию, — подумала она, — зачем ему это?»
— Может быть, вы устали сегодня? — осведомился он, так ничего и не услышав больше.
— Нет, — сказала Аглая Петровна.
— Может быть, вы желаете что-либо получить? Какую-либо пищу? — осведомился он глухо. — Здесь можно.
— Нет.
— Может быть, еще матрас? Здесь не жестко?
— Нет.
Она видела, как он облизал пересохшие губы. Пить хочет, что ли? Так почему не напьется?
— Если вы плохо себя чувствуете, я могу уйти.
— Вы не в гости пришли.
Уже давно, когда она еще тому — первому, веря в здешнюю справедливость, тому, с губами в ниточку, с насмешливым взглядом все познавших глаз, еще там, после лагеря перемещенных, тому, по фамилии Спекторов, пыталась объяснить, втолковать, он ответил ей словами, как показалось ей, шутливыми: «Докажите вашу невиновность».
— Позвольте, — даже растерялась тогда она, — почему же я должна это делать? Ведь нет никаких доказательств виновности!
— Э-э, матушка! — усмехнулся Спекторов.
И добродушно предложил ей закурить.
Она не взяла, хоть раньше и брала. И с того мгновения положила себе за правило ничего у «них» не брать, не разговаривать искренне, не жаловаться «им», не идти на дружеский, простой разговор. Доказывать свою невиновность, когда ничто не доказывает вины? Это же придумали инквизиторы!
— Ну и что же? — усмехнулся Спекторов. — Все годное в истории нам подходит. Годится. Понятно? Товарищ Вышинский модифицировал забытое нам на пользу. А вы разве юрист?
— Коммунист! — спокойно ответила она.
— Неужели?
Тогда она заплакала. В последний раз. А потом стала закаляться. Это происходило со многими, не с ней одной. Главное было не сдаваться нравственно, сохранить веру, не рухнуть, не ослабеть, — свой сухарик, своя передачка, свое мыльце — сколько на этом гибло! Она не сдавалась. И таких, как она, было множество, великое множество.
Не сдавшись и закалившись, она возненавидела «их» всех.
И сейчас, когда перед ней был обожженный войной и израненный на войне чистый и честный человек, с уже распахнутым ей навстречу пламенным сердцем, не научившимся не верить, готовый разобраться и не пожалеть сил для ее дела, — она не верила ему, не позволяла ему вникнуть в ее обстоятельства, не допускала его до истории своих мытарств и своего ожесточения, ожесточая Гнетова и раздражая его, потому что он не понимал причин ее ненависти к нему, которого она и видела-то впервые.
— Хорошо, — сказал он после нестерпимо длинного молчания. — Поправляйтесь. Вы еще слабы, я понимаю. Но убедительно вас прошу, когда мы встретимся — будьте со мной откровенны.
Поднявшись, он еще немного постоял и произнес, помимо своей воли, фразу, очень удивившую Аглаю Петровну.
— Понимаете, — сказал он, — ведь существуют и ошибки. История учит нас, что наша сила еще и в умении исправить ошибку. Может быть, и с вами произошла ошибка, но без вашей помощи мне не разобраться…
— Вы читали мое дело?
— Его здесь нет.
— На нем начертано «Х. в.» — «Хранить вечно». Можете затребовать. Лучше почитайте дело и оставьте меня в покое.
Он ничего не ответил, ушел. Она закрыла глаза и постаралась уснуть.
Часов до восьми вечера Гнетов бессмысленно перелистывал паспорт-формуляр Аглаи Петровны. Из этих листков он ничего не понял и, чтобы не было так ужасно тяжело на душе, пошел в кино. Но то, что происходило на экране, его нисколько не касалось. Ему не было никакого дела до кинофильма, снятого в городе, в котором даже не знали, что такое затемнение. Он только позевывал от ненастоящих взрывов, от пиротехнического дыма сражения, от всего того вздора, который не нюхавшим войны представляется настоящей войной. Позевывал и стыдился.
На новой квартире, в которую нынче поселил его музыкальный Пенкин, Гнетов ножом, как на войне, поел застывших консервов, запил их холодной водой, такой холодной, что от нее ломило зубы, и сел писать Штубу.
Писал он долго, а когда перечитал, то ему показалось, что все написанное так же похоже на то, что он думает и чувствует, как кинофильм, который он видел, похож на пережитую им войну.
Было уже очень поздно — часа два пополуночи.
Гнетов походил по комнате, еще попил потеплевшей воды, порвал письмо и стал писать другое. Но разве могли у него отыскаться слова, которыми, хоть в малой мере, хоть в самой ничтожной, можно было выразить то, что он чувствовал!
Нет, таких слов не было! Они еще не народились на свет! У него, конечно. Ведь не мог же он, чекист, оперировать понятиями, которые слышал от Устименко А. П.?.. Или мог?
Ничего он не знал, не понимал, не мог ни в чем разобраться…
Впрочем, пожалуй, твердо он знал только одно, вернее, узнал к рассвету: Гнетов понял, что Устименко А. П. не может быть ни в чем виновата.
— Не может! — сказал он глухо. — Не может, нет! Невозможно!
Письмо Штубу он так и не отправил.
ПРОФЕССОР ЩУКИН
Заиндевелый утренний курьерский мягко остановился, из вагонов почти никто в Унчанске не вышел, поезд спал. Устименко, оскальзываясь палкой, сильно хромая, зашкандыбал к международному, проводник с трудом распахнул примерзшую в путевой пурге дверь, обтер тряпкой поручень; высокий, барственный, похожий на всех знаменитостей вместе, профессор Щукин не торопясь сошел на перрон, огляделся в ожидании, вероятно, почетного караула — такой у него был вид в бобрах среди чемоданов, которые выносил заспанный, но старательный проводник.
Дочка или внучка профессорская, в легкой шубке, в шапочке с перышком, розовая, совсем ненакрашенная — наверное, не успела, — первой протянула руку Владимиру Афанасьевичу, сказала:
— Щукина, очень рада…
Сам, похохатывая, словно недоумевая, куда это его черт принес, вглядывался в новый вокзал, в огромный, на еще более огромном пьедестале монумент с заиндевелыми усами и бровями и с трубкой в руке, на которой пристроился нахохленный воробей.
— Вот мы и приехали, — сказал профессор внучке или дочке.
Свою квартиру Щукин занимать сразу ни в коем случае не пожелал, выразился по-старинному, что предпочитает «стоять» в гостинице для начала. А впоследствии, устроившись, переедет…

![Борис Хантаев - Праздник живота [СИ]](/uploads/posts/books/87303/87303.jpg)