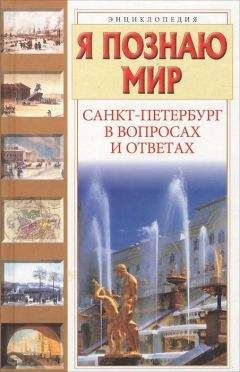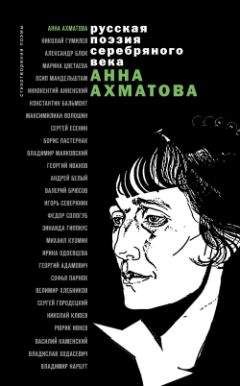Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
«Попали мы к нему в час обеда, – запишет в дневнике Брюсов. – Мещанская обстановка, плохонькие фотографии и лубочные олеографии на стенах, детей содом и очень миловидная жена, хоть и не очень молодая… Нас усадили обедать… Фофанов волновался, суетился. Одно время у него мелькнула было смутная надежда, и он что-то залепетал жене: “Водочки бы…” Та строго… поглядела, и он смолк. После обеда… позвал сына своего Борю, послал его куда-то: “Принеси нам чего-нибудь жидкого…” Увы, Борю по пути перехватили, и он принес лишь вод – ананасных, лимонных, смородинных, квасу клюквенного… Мне, – заканчивает Брюсов, – хотелось всячески хвалить Фофанова, а он принимал это, как дитя… Когда… собрались уходить, Фофанов вздумал нас проводить. Жена его страшно взволновалась, замолила его, в голосе ее раздалось что-то истерическое: “Костя, милый, не ходи!” – “Да что… я только проводить до вокзала”. – “Не ходи!” Она почти рыдала…»
Говорят, что когда Толстого отлучали от церкви, Фофанов в часовне гатчинского вокзала саданул ногой по огромному подсвечнику и крикнул: «Вы жжете здесь свет и отлучаете от церкви Толстого?!» Угодив в лечебницу для душевнобольных, «часами, а то и целых полдня» мог стоять, вытянув вверх палец, и повторять: «Пока я держу палец вот так, мир существует; стоит мне согнуть палец – мир рухнет!..» Мог выскочить на улицу в одном белье навстречу церковной процессии и… изобразить Христа. Мог в Малом театре принять великого князя Владимира Александровича за великого князя Константина Константиновича, известного поэта, и нарочито громко крикнуть: «Вот великий князь, но пиита – малый!..»
«Про Фофанова складывались легенды, – вспоминал Северянин, – но большинству из них я верить не рекомендую… Фофанов был обаятельным, мягким, добрым… и сердечным человеком, очень нравственным, религиозным и даже застенчивым по-детски. Любил своих детей (кстати, девятерых. – В.Н.), в особенности Константина (Олимпова впоследствии…). Кроме своей жены… не знал ни одной женщины… Жена его, подверженная тому же недугу, каким страдал и он сам, иногда где-то пропадала по целым дням, а когда бывала дома, находилась… в невменяемом состоянии… Спрашивают, кто на кого дурно повлиял? Не отвечая прямо на этот вопрос, я укажу только, что пить поэт начал с тринадцатилетнего возраста. Жена же его, происходившая из вполне приличной – в общественном смысле – морской семьи, окончившая Смольный институт, пить начала спустя много лет после брака».
А как умирал в Гатчине Фофанов, опишет Георгий Иванов: «Мещанский кривой домишко, жаркие, заставленные барахлом комнаты, чад кухни, дым дешевых папирос, бульканье водки, человек десять каких-то оборванцев собутыльников и среди этого – нищий, пьяный, грязный, всклокоченный – Фофанов. Умирающий Фофанов… Собутыльники – шулера, взломщики, агенты охранного отделения. Фофанов с искаженным лицом опрокидывает стакан, страшно, дико кощунствуя, тянется к киоту – закурить от лампадки. И, икая, читает стихи… на каждом из которых сквозь вздор и нелепость – отблеск ангельского вдохновения, небесной чистоты. Шулера и агенты… внимательно слушают. На глазах у них слезы. Фофанов шатается. Потом, изможденный стихами, водкой, усталостью, валится под стол, на плевки и окурки, на грязные сапоги сыщиков. Валится с невнятным бормотанием: “Бессмертия мне!..” Это были его последние слова, когда он умирал от белой горячки»…
Вот Фофанов, а потом Сологуб и ввели Игоря в большую литературу. Печатать Северянина стали просто ненасытно. Слава свалилась сумасшедшая, но что–то в ней было не так. Слава была надтреснутой, как дорогая чашка с отбитым краем, какой-то ущербной. Его носили на руках парикмахеры, модистки, приказчики да гувернантки – только у них был популярен. А начиналась эта «слава» на перекрестке Дегтярной и 8-й Советской, бывшей Рождественской. Тут стоял когда-то деревянный дом, где была редакция жалкой газетки «Глашатай». В ней–то и родился эгофутуризм, здесь собирался «Директориат» эгофутуристов. Тот еще театр! И не тогда ли Северянин, коллекционирующий собственные афоризмы, придумал максиму: «Не ждать от людей ничего хорошего – это значит не удивляться, получая от них гадости»?..
На каком углу перекрестка стоял этот дом, установить трудно: на всех четырех углах давно стоят дома каменные. Но здесь Северянину и его поэтам, «фантастам и грезерам», вечному студенту Граалю Арельскому, семнадцатилетнему мальчику с припухлым ртом Константину Олимпову (он и стрелялся, и топился уже), Василиску Гнедову, который, говорили, однажды кулаком убил волка[199], а также почти подростку Георгию Иванову, редактор газеты «Глашатай» Иван Игнатьев и предложил к услугам свое издание. Предложил и деньги. Все это в обмен на славу и для себя. Вот тогда, вслед за почином итальянца Маринетти, которого наши юноши боготворили, и родился футуризм – «Академия Эго-поэзии». Правда, назвал свое «направление» Северянин по-своему – «эгофутуризм», как бы футуризм, но – вселенский.
«“Директориат” решил действовать, завоевывать славу и делать литературную революцию, – вспоминал Георгий Иванов. – Сложившись по полтора рубля, мы выпустили манифест эгофутуризма. Написан он был простым и ясным языком, причем тезисы следовали по пунктам. Помню один: “Призма стиля – реставрация спектра мысли”…» Смешно…
Впрочем, довольно скоро, да что там – почти сразу, выяснилось, что все состояние «спонсора» Игнатьева составляли только огромная тройная золотая цепь через жилет и хорьковая шуба. И цепь, и шуба часто отправлялись теперь в ломбард, чтобы выкупить очередную «эдицею» в пятнадцать страниц. Но «революционеров» это не смущало. Шумные «поэзо-вечера» на Лиговке, на Выборгской (Северянин «вылетал» на сцену с цветком в петлице, а Георгий Иванов, по его наущению, – с красным платком на шее) чередовались у них с шумными попойками в редакции «Глашатая». Пирушки звали «поэзо-праздниками», о них извещались журналисты специальными «вержетками» (программками, напечатанными на бумаге верже). Прилагалось и меню ужина: «Крем де Виолетт», «филе молодых соловьев». Поклонявшийся тогда Северянину Маяковский даже ляпнет как-то, что «Крем де Виолетт» Северянина глубже, чем весь Достоевский…
«В действительности, – пишет Г.Иванов, – было проще. Полбутылки Крем де Виолетта украшали стол в качестве символа изящества». А вот водки и вина было так много, что гости скоро становились невменяемы. «В трех… низких комнатах… жара: печи докрасна натоплены, окна… глухо замазаны на зиму. Под висячей керосиновой лампой – растерзанный стол с грязными тарелками и бутылками. По диванам и стульям развалились гости и директориат, опьяненные “Шамбертеном 1799 года” из казенной лавки напротив. Северянина нет, когда “празднество” начинает становиться гнусным, он неизменно уезжает. Его и не удерживают, его умение пить, не пьянея, и барственный холодок стесняют компанию. Но вот он, единственный человек, которого здесь стесняются и побаиваются, ушел. Теперь – гуляй вовсю…» Тогда становились возможны вещи «совсем дикие»: стрельба по голубям на чердаке, раскраска лиц. Одному пожилому уже человеку, «соблазненному футуризмом», выбрили полголовы и, закрасив ее зеленой краской, нарисовав на щеках зеленые вопросительные и красные восклицательные знаки, выпустили на улицу – гуляй, дядя!..