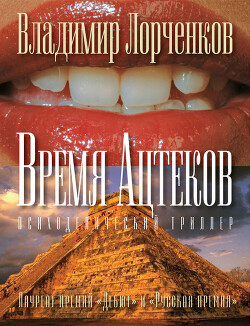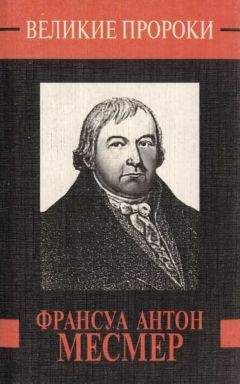Клуб бессмертных - Лорченков Владимир Владимирович
Вечность… Алмазная гора величиной с Землю, которую клюет ворон. Когда ворон склюет последнюю крошку алмаза – времени от начала времен, – наступит один миг вечности. Это персидское ее толкование. Когда я услышала его первый раз, то была восхищена. Вы, люди, лучше, чем кто бы то ни был, умеете давать определения тому, чего в жизни не видали. А даже если у вас есть возможность это что-то увидеть, вы все равно упорно отворачиваетесь, и продолжаете выдумывать, на что это похоже. Да-да.
Аристотель, пытающийся определить, сколько у мухи лапок.
В последнюю ночь Прометеуса в моем доме – а ведь на самом деле прошло девять лет – я каким-то чутьем поняла, что завтра он уйдет.
Минут десять мы возились друг на друге, грязно ругаясь. Ко второй минуте я его явно перещеголяла. Прометеус блаженствовал. Для него это тупое, скотское, примитивное совокупление было счастьем, я знала. Мясо, мясо, мясо. Сладкое, пузырящееся. Мужчинам нравится быть скотами. Настолько нравится, что они и бывают скотами.
После этого они обычно засыпают.
Проснувшись, он тихо стенал из-за боли в руке, которую отлежал, и попытался передвинуться. Само собой, не получилось. Само собой, это Прометеуса не испугало. Такое с мужчинами часто происходит после сна. Но и раскрыть глаза не получалось.
Я видела: ему хочется сразу уйти, что, в общем, неудивительно. Утром мужчине всегда хочется уйти. А руки у Прометеуса были связаны. Он с трудом повернулся на левый бок и наконец-то понял – на его голову что-то надето.
Ему казалось, что он провел в моем доме неделю, но был у меня, повторюсь, девять лет. Ему казалось, что он тупо совокуплялся с полной школьницей. Еще ему казалось, что на пятый день она позволила себя содомировать. Прометеусу казалось, что ему пришлось ради этого вылить в щель между ее – моими, стало быть – потными ягодицами половину флакона детского масла «Утенок». И еще ему казалось, что мы почти не разговаривали, если не считать длинных матерных диалогов, которые начинались, когда он входил в меня, и заканчивались, когда выходил. Так ему казалось.
И так было на самом деле.
За исключением одного. Все это время на голове Прометеуса была бычья голова, которую я купила на мясокомбинате поблизости и напялила ему на голову, как только мы зашли в дом. Естественно, Прометеус не ощущал ее. Ровно до той ночи, которая стала последней в моем доме.
Признаться, за девять лет голова стала дурно пахнуть. Левый глаз выпал, а один из рогов обломился. Меня это не смущало. Он выглядел роскошно, мой Прометеус. И был почти неотличим от Минотавра – единственного самца, которого я любила.
Взревев, словно Минотавр – на сей раз невольный Минотавр, околдованное чудовище, – Прометеус бросился к ванной. Умница, он хорошо запомнил, что там было зеркало. Но света в ванной нет, и он напрасно туда заскочил, попутно ударившись головой о незамеченную полураскрытую дверь. Я наслаждалась.
Выскочив из ванной, он брел по комнате, пытаясь вспомнить расположение мебели, чтобы не нарваться на стул или шкаф и не упасть. У мебельной стенки долго пытался открыть плечом дверцу, на обратной стороне которой есть зеркало. Повернулся спиной, и – связала я ему запястья, не кисти, – одеревеневшими пальцами долго скреб дверцу. Та наконец поддалась. Он раскрыл ее ногой и, задрав голову, посмотрел в зеркало, уже зная, что там увидит.
На него глядела бычья морда.
Бычья морда с небрежно опаленной щетиной, в пятнах крови. Из пустых глазниц головы на Прометеуса глядели большие влажные глаза. Его глаза. Пытаясь успокоиться, он отошел от шкафа, стал примерно посреди комнаты и тряс головой в надежде, что маска быка спадет. Безуспешно. Попытался содрать рыло об углы стенки, но ничего не получилось. Я хорошо прикрепила голову быка к Прометеусу. Он в ужасе закричал, и я наслала на него сон. Утром ему казалось, что все произошедшее ночью – дурной кошмар. Он остался доволен. Как и я.
Люди были несправедливы ко мне. Особенно этот слепец, опозоривший доброе имя Цирцеи в своей «Одиссее». Только глупец мог упрекнуть меня в том, что я будто бы превращаю мужчин в животных. Мужчины это и есть животные.
Какой смысл превращать мужчин в мужчин?
Цербер:
Я до сих пор помню его лицо. Слабоумный мальчишка лет тринадцати. Волосы, густо обрамляющие яйцевидную голову, волосатые ноздри, мохнатые брови, и все это – рыжеватого цвета. Он был одет в некое подобие накидки, только была она не из ткани, а из шкуры. Причем собачьей. Уже одного взгляда на нее мне хватило, чтобы понять: случится что-то очень неприятное. Потом я перевела взгляд на его ноги: тоже поросшие рыжеватой шерстью, они были обуты в сандалии с деревянной подошвой. Больше на нем ничего не было надето. За исключением венка из виноградной лозы. Его мальчишке напялили на голову пьяные односельчане во время очередного праздника Диониса.
Чего вы хотите, во времена Гомера, как и значительно позже, было принято издеваться над дурачками.
Мальчишка глядел на меня минут десять, а потом подбежал и схватил за лапы. Честно говоря, несмотря на нехорошие предчувствия, я все-таки сглупила и позволила ему сделать это. Что поделать, мы, животные, любим детей. Их жестокость бессознательна, этим они в лучшую сторону отличаются от взрослых. Итак, он схватил меня за лапы. Я замахала хвостом, как и полагается порядочной суке, с которой решил поиграть ребенок. И тут этот подросток-кретин, наглядевшийся на проказы взрослых односельчан – упившись вином, они ловили ослицу и устраивали такое, о чем я сейчас лучше промолчу, а вы говорите – просвещенные греки, – поворачивает меня и пытается пристроиться сзади, как пес. Этого, скажу я вам, ни одна порядочная собака не выдержит. Не выдержала и я. Резво обернувшись, укусила его за лодыжку, не очень сильно, но достаточно для того, чтобы мальчик отстал.
Тут-то он отскакивает метра на два, хватает огромный камень и, подняв его над головой обеими руками, швыряет прямо в меня!
С тех пор я и охромела на правую заднюю лапу. Конечно, пришлось спасаться бегством. Думаю, никто не упрекнет меня за трусость: благоразумные животные лишены такого совершенно никчемного качества, как неоправданное мужество. Это тем более удивительно, что оно, мужество, лишь вредит представителям вида, а не помогает в эволюции. Тем не менее вы, люди, из всех видов оказались самыми успешными. Чемпионами, я бы сказала, если бы могла говорить. Увы, этой способности я лишена примерно так с четвертого века до нашей эры, когда один из легионеров Александра, проходя мимо хижины персидского крестьянина, я как раз сторожила его овец, бросил в хромую собаку дротик. А? Просто так, забавы ради. Дротик пробил мне челюсть снизу и пригвоздил язык к небу. К счастью, мой очередной хозяин был настолько сердобольным человеком, что вытащил дротик из моей пасти и залечил рану. Нет, все-таки прав был Хэрриот, когда написал, что крестьяне вовсе не лишены чувства привязанности к своим животным.
Само собой, до того злосчастного происшествия с дротиком разговаривать я умела. Много ли ума надо? Разговаривали, спешу вам сообщить, практически все животные. Птицы болтали. Насекомые бормотали. Рыбы мямлили, но все-таки, преодолев себя, говорили. Все издавало звуки в этом мире. Вернее, не так. Все издавало звуки в мире Гомера, который позже стал вашим миром, в котором уже ничто и никто, кроме вас, не разговаривает. Спасибо за комплимент: я действительно провела два года в школе Платона. Там мне приходилось охранять ворота с высеченной над ними надписью. «Истина – враг заблуждений».
Нет, именно эта надпись. Все остальное придумано позже. Вы скажете, что эта надпись чересчур банальна? Само собой. А чего еще вы ожидали от пятидесятилетнего старца (тогда люди не доживали и до шестидесяти), который, по сути, не знал ничего? Да и не пытался узнать: его явно интересовали лишь его же логические заключения, непонятные никому, кроме… правильно, него же.
Аристотель здорово подшутил над Платоном и этой его надписью значительно позже, когда сказал: