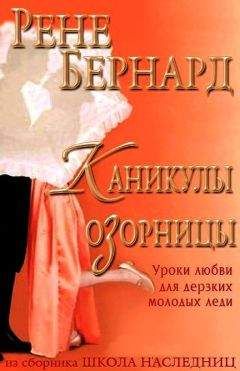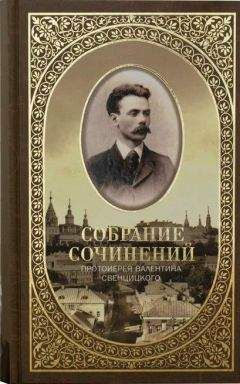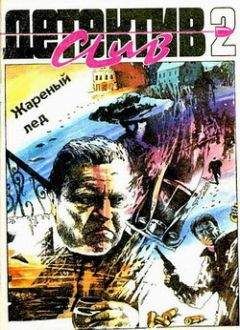Кто-то плачет всю ночь за стеною - Ермолаев Александр
Сын, к ее удивлению и огорчению, быстро согласился не ехать, взяв с нее обещание, что она сейчас же вызовет скорую и отзвонится ему после. Она, обидевшись, решила, что не будет ему больше звонить, неблагодарному. Но скорую все-таки вызвала. Ей сделали укол — полегчало. Позвонил сын, она обиженным голосом сказала, что ей лучше и что она собирается спать. После разговора она еще немного посмотрела телевизор. Потом она уснула.
Но перед самым сном что-то с ней произошло, будто старость на мгновенье ослабила хватку — и разум ее высвободился. Мысль ее была ясна, как много лет назад. Она подумала о том, что устала жить и что хочет умереть. В каком-то смысле так и произошло, только это была не физическая смерть. Ей приснился сон. Тамара Геннадьевна и Людмила Валентиновна шли по странным холмам. То ли это был снег, то ли песок, то ли что-то другое, непонятное. Во сне она подумала, удивилась: почему с ними нет Александра? Ведь всю жизнь они были связаны этим треугольником. Они не разговаривали, но не от обиды, а от усталости. Потом Людмила Валентиновна прямо на глазах у Тамары Геннадьевны провалилась. Ушла под землю или под снег — или под что-то другое.
Ушла с головой.
И проваливалась дальше — туда, откуда уже не выбраться.
Тамара Геннадьевна замерла от беспомощности, от бессилия. На ее глазах погибал близкий человек (ужас именно такой природы посетил ее — смерть близкого), а она ничего не могла сделать. Потом и она провалилась. Как известно, смерть во сне обрывает и сон. Тамара Геннадьевна вздрогнула от ужаса и проснулась.
Она оделась и побежала к подруге.
Была полночь.
Тамара Геннадьевна торопливо шагала по ночному городу. Она боялась, что недавнее прозрение вот-вот рассеется, что она снова вернется к прежнему состоянию.
— С ума сошла, дура старая! — встретила ее на пороге Людмила Валентиновна.
Впервые за много лет она сказала ей что-то напрямую, в лицо.
— Как… как мы… Людочка, как же так, как же? — бормотала Тамара Геннадьевна.
— Ты знаешь, который час?
Тамара Геннадьевна вошла без разрешения, не разувшись. Людмилу Валентиновну испугал такой настрой, она подумала, что бывшая подруга окончательно свихнулась.
— Ты что творишь, маразматичка! Я тебя сейчас отсюда за шкирку выкину! Проваливай!
— Людочка, как же так? Что же мы наделали?
Она полезла обниматься, но Людмила Валентиновна оттолкнула ее — так, что та упала. Но не остановилась. Она на коленях подползла к подруге и обняла ее.
— Людочка, милая, что же мы наделали. Я виновата. И ты тоже виновата. Прости меня, прости.
Людмила Валентиновна пыталась отцепить ее, но не получалось, слишком крепко ее сжали.
— Что ты несешь, блядина старая! Отцепись от меня!
Тамара Геннадьевна продолжала бормотать, словно и не замечала, что ее толкают:
— Как мы могли, Людочка, как мы могли? Ничтожество. Он же полное ничтожество. Как мы позволили ему сделать это с нами? Он и мизинца твоего не стоит. А я тебя променяла на него. Я должна была тебе жизнь посвятить. Нашей дружбе. А отдала ее ничтожеству. Пустому месту. Господи, что я наделала. И что ты наделала, Людочка? Почему не остановила меня? Почему не сказала, что я дура? Почему?
Людмила Валентиновна уже не так лихо отталкивала подругу, но злость не прошла. Правда, злилась она теперь по-другому. В злости было и бессилие, и слезы, которые она спешно вытирала.
— Говорила. Только ты не слушала. И сейчас говорю: дура. Поднимайся и проваливай!
— Нет. Теперь я тебя не отпущу. Теперь не отпущу.
Людмила Валентиновна смотрела на нее как на беспомощного ребенка, который сделал серьезную пакость, но которого нельзя не пожалеть, потому он, ребенок, и сам дико перепугался.
— И что теперь прикажешь делать, дура старая? Новую жизнь нам начать? Пора под землю опускаться, а ей бы малость поебаться. Так, что ли? Проваливай.
— Не уйду. Больше я тебя не оставлю. Что мы наделали?
— Тебя заело? Что наделали, что наделали. Какая уже разница. Поздно уже. Тебе налево, мне направо.
— Тебе в кусты, а мне в канаву.
Людмила Валентиновна усмехнулась.
— Откуда ты это взяла?
— Ты так однажды сказала. Давным-давно.
— Уже и не помню. Ничего не помню. И не хочу вспоминать, Томочка. Не хочу. Ничего не хочу. И жить не хочу.
— Я тоже так вечером подумала. А сейчас уже по-другому думаю. Давай еще немножко, а? Хотя бы самую малость. Уже как следует. Ты и я. Людочка, ну? Скажи что-нибудь.
На следующий день они уволились. Ольга Николаевна, выпучив глаза, попыталась то ли сказать что-то, то ли спросить, но так она была поражены картиной воссоединения, что промычала какую-то ерунду. Впрочем, подруг это не удивило. В их глазах Куча всегда была посредственностью, которую не стоит воспринимать всерьез. Людмила Валентиновна вместе с заявлением сдала билет в цирк, который уже успела купить. Куча вопросительно посмотрела на нее: мол, а как же жираф?
— Отдайте кому-нибудь. Уже не хочу. Планы изменились.
Это была правда.
Две подруги решили так: Тамара Геннадьевна продает свой дом (потому что он побольше) и переезжает к Людмиле Валентиновне. А на полученные деньги они отправятся в путешествие. Куда — пока еще не решили. Но это должно быть место, как можно меньше напоминающее Сибирь, которую две подруги за всю жизнь ни разу не покидали.
Из школы они выходили так же, вместе. В этот момент, кажется, все учителя и ученики прилипли к окнам. Такого зрелища никто не ожидал увидеть. Две старые женщины, которые ненавидели друг друга всю жизнь, шли под ручку и о чем-то мило шептались.
— Ты мне вот что скажи, Томочка… Всегда хотела тебя спросить.
— Спрашивай.
— Александр когда-нибудь просил тебя…
Людмила Валентиновна что-то шепнула на ухо, а затем продолжила нормальным голосом:
— …Я согласилась на это только потому, что он клялся мне, что вы с ним так делали.
Тамара Геннадьевна вдруг рассмеялась. Людмила Валентиновна сначала растерялась от такой реакции, а потом побагровела.
— Вот же припиздок! — разозлилась она. — Развел меня! То-то у меня были сомнения. М-да-а-а. Вечером была простушкой — к утру стала потаскушкой.
Тамаре Геннадьевне стало еще веселее, она смеялась и смеялась, без конца, всю дорогу.

Сергеич
У Сергеича было два секрета, о которых он никому в своей жизни не рассказывал.
Первый: Сергеич был голубым.
Второй: у него был кривой член.
К сожалению, это были не те секреты, с которыми можно мирно сосуществовать. Они мучили его, изводили каждый день. Он был уверен, что именно из-за бесконечного стресса заработал раннюю лысину, которой он очень стыдился. Хотя он порой сомневался, не знал, что мучительнее: скрывать свои болячки и бояться, что их могут заметить, — или же наконец признаться во всеуслышание и жить дальше.
«Болячки».
Сергеич к своим тайнам относился именно так, — как к болячкам, страшным и постыдным.
Это, впрочем, было неудивительно, учитывая, в какой семье он вырос.
Семья, где отца называют батей. Где мать видит смысл жизни и счастье в том, чтобы родить как можно больше детей. Причем главное — «дать жизнь», а воспитание и прочее — это уже вопросы второстепенные.
Ко всему прочему — семья Сергеича жила в деревне, дети там в лучшем случае пинали мяч (и проигравшие получали поджопники от победителей), а в худшем — подсматривали, как тетя Галя моется в бане.
Сбои в ориентации Андрейка стал замечать в одиннадцать лет.
Друг Лева мечтал о красавице Дашке Солнцевой, их однокласснице, мечтал вслух — со всеми подробностями: от слюнявых поцелуев до возможности потрогать грудь. А вот Андрейка был абсолютно равнодушен к этим историям. Но все равно он любил слушать Леву. Что бы тот ни говорил.