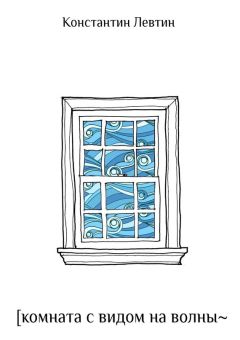Тристания - Куртто Марианна
Она повернулась ко мне, я поднял руки и легко потрогал ее лоб двумя пальцами, словно благословляя.
— Что ты там такое нарисовал у меня на лбу? — спросила Ивонн.
— Сам не знаю. Наверно, знак защиты.
— И от чего, скажи на милость, меня опять понадобилось защищать?
— От утопання. А еще от волков.
— Где же тут волки-то бродят?
— Да повсюду.
— По-моему, у тебя начались видения.
— Нет, это ты не смотришь по сторонам и потому ничего не видишь.
— Тебе кажется, что твои слова прозвучали приятно?
— Ивонн, мир вообще не назовешь приятным.
— Да, знаю. И все же он не лишен приятностей, — сказала она и повернулась ко мне спиной, чтобы выйти из комнаты, но я не отпустил ее, схватил одной рукой за талию, другой за плечо, чуть отклоняя назад.
Она поморщилась, высвободилась и отряхнула платье, как будто я запачкал его. Затем смерила меня хмурым взглядом (мне в очередной раз почудилось, что в ней обитает разум другого существа) и направилась в ванную заниматься секретными делами, которыми женщины всегда занимаются в ванных комнатах.
Оставшись один, я принялся изучать содержимое собственного шкафа. Выбор был невелик, но все же среди застиранных свитеров мне удалось отыскать старый пиджак, который я выменял когда-то у одного голландского моряка. Пиджак сделался мне маловат, его рукава вытерлись, однако он все еще смотрелся неплохо.
Надев пиджак, я стал рыться в его карманах, и внезапно мои пальцы коснулись чего-то тонкого. Это был твердый листок бумаги.
Фотография.
Я посмотрел на нее и невольно охнул.
Ноябрьский день, когда я женился на Лиз, был словно изготовлен на фабрике по производству прекрасных дней. Стояла поздняя весна, беленые стены нового здания церкви нагрелись на ослепительном солнце. Все жители поселка разоделись в лучшие наряды, и это несказанно тронуло меня. Стараясь не помять накрахмаленную одежду, люди входили в церковь, пробирались на свои места осторожно, чтобы не запачкать начищенную до блеска обувь. Гости переговаривались вполголоса, никто не размахивал руками, словно боясь ненароком задеть невесту, которая вошла под церковные своды, освещенные косыми солнечными лучами.
Лиз, жаркая, как день. Лиз в пожелтевшей фате моей бабушки и в свадебном платье, перешитом из подвенечного наряда Элиде. Платье пришлось заузить, чтобы оно не болталось на стройном теле Лиз. Обручальное кольцо тоже было старым, бабушкиным; в дождливую погоду оно могло легко соскользнуть с тонкого пальца Лиз.
Нас обвенчал пастор Бёрроу — самоотверженный человек, который дал обет отслужить три года в самом глубоком захолустье королевства. Сюда его привело чувство долга перед островитянами, потому что много лет назад они спасли его деда. Тот оказался в числе пассажиров корабля, затонувшего в наших водах; вместе с другими бедолагами он чудом сумел добраться до Неприступного. Так называется ближайший к Тристану остров, на который трудно попасть из-за обрывистых прибрежных скал. Выжить на Неприступном пассажирам того корабля помогло сырое пингвинье мясо, дикий сельдерей и сила воли. Спустя некоторое время они соорудили плот, несколько человек доплыли на нем до нашего острова и вскоре вместе с тристанцами вернулись на Неприступный за остальными, которые успели совсем оголодать и перессориться.
Однако в день свадьбы пастор, казалось, не жалел о приезде сюда; довольной выглядела и миссис Бёрроу, которая стояла в проходе и снимала свадьбу на свой фотоаппарат, единственный на весь остров. Мерное щелканье затвора задавало темп несложной и короткой церемонии.
В тот год мне исполнилось тридцать шесть лет, и я считался безнадежным холостяком. Одиночество было моим добровольным выбором: в отношениях меня интересовала только настоящая любовь, и разменивать свою устоявшуюся жизнь на какие-то пустяковые забавы мне не хотелось. К тому же мне было хорошо одному в своем маленьком доме со своей маленькой собакой. У меня была работа, которая за долгие годы расширила границы моего мира, были друзья, прежде всего Пол, с которым мы еще в школе стали не разлей вода.
Я никогда не обращал особого внимания на Лиз. Она представлялась мне эфемерной тенью, мелькающей где-то на дальнем плане: да, красивая, но слишком молчаливая. Я не любил молчаливых людей: мне казалось, что им просто нечего сказать и что все тихони — робкие и безвольные личности. Но со временем я понял, что Лиз — женщина не только земная, но и очень волевая.
Она заманила меня в свои точно расставленные сети. В отличие от других женщин, которые мало волновали меня (при этом и я, и они понимали, что выбор на нашем острове весьма невелик), Лиз никого не подпускала к себе близко. Она выжидала момента, когда я замечу уверенные движения ее тела, почувствую тишину, загадочно витающую вокруг нее. Я запросто мог бы жениться на другой — на ком-нибудь из тех громкоголосых женщин, с кем танцевал из вежливости. Кое-кто из них мне даже нравился, с ними было забавно, временами смешно, но все они слишком старались выставить себя напоказ. Ни одну из них я не мог представить в своем доме, рядом с собой.
В одну из суббот, когда танцы близились к концу, я ощутил на своей спине чей-то взгляд. Сначала я почувствовал лишь легкое покалывание под кожей, но вскоре заметил, что покалывание усиливается, электрический ток преобразуется в мысль, а затем в силу, и под действием этой силы моя голова поворачивается, глаза ищут, а губы расплываются в улыбке.
Она улыбается в ответ.
Крючок.
Да-да, крючок, только мягкий и приятный. Я понял, что хочу ощущать его покалывание снова и снова: на поселковых праздниках и крестинах, на богослужениях и в поездках за яблоками, в дни уборки картошки и в дни ловли крыс, да и в самые обычные дни; ощущать, пока тело не наполнится этими покалываниями доверху.
Одним безоблачным воскресеньем я позвал Лиз прогуляться по плато, лежащему выше Цыганского оврага. Плато находилось на полпути к вершине горы, дорога туда была неблизкая, но Лиз привыкла много ходить пешком и была на четыре года моложе меня, так что подъем дался ей без труда.
Добравшись до плато, мы уселись на смотровой площадке, откуда открывался вид на море. Обвели восхищенными взглядами острова с белыми птичьими стаями, затем достали бутерброды и налили в эмалированные кружки слабого чая. Неторопливо перевели взгляды на поселок, задумались над его официальным названием — Эдинбург семи морей, которым никто никогда не пользовался, и стали рассуждать, при чем тут семь морей, ведь все моря рано или поздно стекаются в один большой бассейн. «А все морские рыбы живут в одном большом доме», — добавила Лиз и повернулась лицом ко мне.
Мне нравилось это лицо. На первый взгляд оно казалось невыразительным, но со временем я научился читать по нему все чувства Лиз. Губа чуть подпрыгивает наверх: волнение. Веки подрагивают, хотя глаза остаются неподвижными: растерянность.
В те минуты ее глаза двигались, точно мятущиеся лучи темного света. Да-да, именно темного света, потому что Лиз была сложным человеком, похожим на шкатулку с двойным дном. Дни рядом с нею совсем не напоминали гладкую кожуру яблока.
Когда мы доели, я стряхнул хлебные крошки с рубашки и опустился на колени на траву.
После венчания мы вышли на церковный двор, и Лиз бросила через плечо букет невесты, который описал идеальную дугу. Под эту дугу попало море и кусочек ясного синего неба: четко очерченное, досягаемое счастье. Мне показалось, что я могу взять в руки море, небо и птиц, рисующих линии в вышине. Но интересовали меня не птицы и не море, а только она — женщина, которая умела молчать не так, как другие.
Букет поймала девочка-подросток с густой шевелюрой. Следующей невестой буду я! — воскликнула она, а я хмыкнул: ну, какая из нее невеста? Совсем еще ребенок, худая, как дерево, ободранное штормовым ветром.
Лиз обернулась, сложила ладони и издала возглас, в котором слышались одновременно радость и досада. Затем подошла к девочке, приподняла ее и покружила. Когда Лиз остановилась, я ощутил запах, исходящий от девочки, сладкий и в то же время немного затхлый: так мог пахнуть мох, пропитанный печалью. В день свадьбы этот запах был словно из другого мира, но в то же время он являлся частью девочки, как пальцы на руках или ногах.