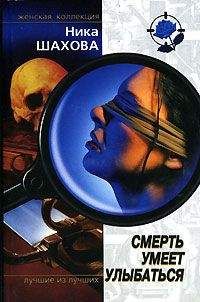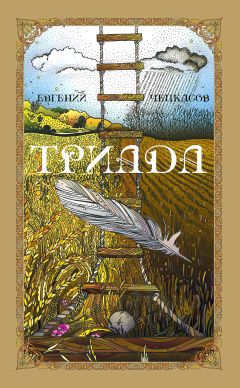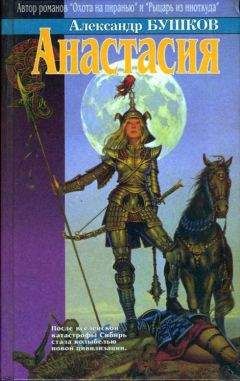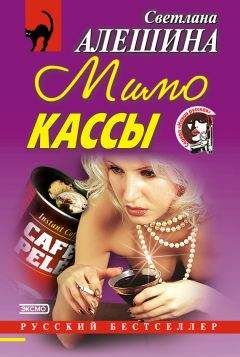Возвращение домой (СИ) - Шахова Светлана
– Лорисса Бориссовна, гм… ну что ты! Не надо…
Они разговаривали недолго. Матушка опять плакала, а тятя согласно.
Тут староста углядел на печке Миньку и посмотрел на него. Минька – на старосту. Далька испуганно ойкнула, и забилась от чужого подальше, за печь, а Миньке любопытно, что он такое скажет. А староста смотрел-смотрел и спрашивает тятю:
– Это твой старший сын? Сколько лет? Шестой год? Гм… Николав, бери молодца в лес… гм, на дело.
– Мал ещё, – заступилась матушка. – И шубы на него нет. Замёрзнет в лесу. Да и на чём же они поедут? У нас нет лошади.
– Ничего, будет лошадь… Пусть едет, пусть… нужно, Лорисса. Пригодится. – отвечает староста. – Одежу ему найдём, скажешь, что нужно… Дело такое… – он поднялся из-за стола. Обратился к тяте, – Николав, лошадь мою возьмёшь, сани-волокуши, как положено… Пора, Николав… Завтра же утром возьми. Гм…
– Ну, прощай, Матвевна, – сказал староста, обращаясь к лавке. На лавке баушку почти не видно – небольшой бугор, накрытый овчиной, – ты это… не поминай, как говорится. Гм, зла тебе не желали. – староста потоптался и попросил отца, – Ты, Николав, сделай, как положено. Надеюсь на тебя! Гм…
Наконец, староста ушёл вместе с Лександровной.
Утром Миньку подняли затемно. Нацепили на него, сонного и вялого, всю его одежонку, сверху в придачу длинный чужой тулуп, и рваные чьи-то валенки. Затем его завернули во что-то мягкое и тяжёлое, вынесли во двор и уложили на сани.
Дорогу Минька помнит смутно. Монотонный бег убаюкивал, как матушкина колыбельная.
Неожиданно сани сильно тряхнуло. Минька поднял голову и разлепил сонные глаза.
– Заяц! – объяснил тятя. – Выскочил из-под копыт! Сидел на дороге, чтоб его!
– А? – спросонья Минька плохо соображал.
– Прибыли! – ответил тятя, – Тпру! – крикнул он лошади. Каурка остановилась.
Только сейчас Минька заметил возле себя длинную груду овечьих шкур, саночки, привязанные к задку больших саней, – вроде тех, с которыми матушка ходит с ведрами на колодец, Тятя, натужно крякнул, старательно обмотал свёртыш верёвкой, пропустил под грудью и затянул узлом на высокой спинке санок. Пальцы его замёрзшие, а оттого непослушные, не сразу справились с верёвкой. Потом тятя потащил санки к оврагу, придавливая чистый снег. Овраг, часто поросшего молодыми деревьями, резко обрывался и дно его Минька не видел.
Тятя нагнулся к самому свертку и стал что-то говорить.
– Матвевна, ты попроси… Попроси там, – услышал Миньке, – прости, попроси… Скажешь: детки у нас. Пусть это… Ну, сама знаешь…
Тятя выпрямился и стянул шапку для молитвы: … И не будет больше ни смерти, ни плача, ни рыданий, исчезнет бывшее, искупятся преступления, и дом примет тебя…
– …дом примет тебя, – заученно повторял Минька.
Из свёртыша гулко хрипело.
Тятя оглянулся и жестом подозвал Миньку. Когда Минька подошёл, путаясь в шубе и утопая валенками в снегу, тятя ткнул его в бок:
– Проси баушку! Скажи: попроси!
– Попроси, баушка, – послушно повторил Минька.
– Отчего так тихо? Громче!
– Попроси, баушка! – сказал Минька. Его била дрожь.
Свёртыш молчал. Из окаймленной белой снежной бахромой виднелись открытый рот и пустые невыразительные глаза.
Тут тятя поднялся, засуетился. Развернул сани, крякнул и подтолкнул к обрыву. Те не поддавались. Тогда он неловко сгорбился, уперся широко ногами в валенках и с силой двинул сани.
Те покатились нехотя, но, попавши на склон, прибавили ходу. Покатились резво и даже весело, да недолго: попали под обрыв, черканули сугроб и пропали из виду. Остались в снегу две узкие дорожки.
Тятя вытянул шею и прислушался. Минька тоже замер. Сзади них фыркала Каурка, а вдалеке хрипела какая-то птица «До-ом-мой! До-ом-мой!». В овраге было тихо.
– …ни смерти не будет, ни плача… – начал было молитву тятя.
«Трах! тах! тах!» – ответил ему лес.
Скрип, громкий и неожиданный, выскочил, прокатился по сугробам, споткнулся и свалился обратно в овраг со злобным и звонким «кри-и-ип!»
Минька задрал голову: «Гром? Зимой?»
Потом произошло странное. Минька и вздохнуть не успел, как оказался у тяти на руках, а сам тятя несся широкими прыжками прочь от оврага. Голова у Миньки болталась, но он переживал за свои валенки: вот-вот свалятся!
Через короткое время тятя, стоя в санях, хлестнул по лошади, и та вздрогнула и рванула по своим же следам обратно.
Сани подпрыгнули и понеслись.
Тут лошадь круто свернула на дорогу, сани накренились, и Миньку всего осыпало ледяным дождём. Минька не удержался, рухнул и больно ударился носом. Сани швыряло на неровной дороге.
«Выпаду! – испугался Минька. – Ой, матушка моя миленькая! Ой..!»
Он вслепую пошарил руками, ища за что уцепиться. Наконец, что-то нащупал и вцепился со всей мочи.
Тятя хлестал и хлестал Каурку, будто гнались за ними все черти мира. Каурка всхрапывала. Гулко стучали копыта. Сани скрипели. С обеих сторон летели снежные комья и били Миньку по спине.
Он решил ничего не делать, а лежать неподвижно и ждать, когда всё кончится.
«Тук-тук-тук!» – стучали Кауркины копыта в Минькиных ушах.
«Скрип-скрип-пип-ип» – вторили им сани.
«Шмяк!» – прилетел к нему на спину особо тяжёлый ком снега.
Сани болтало, будто на качелях. Миньку стало мутить.
– Матушка моя! Ой!
Но к его удаче, удары кнута стали реже. Каурка перешла на шаг, а потом и вовсе остановилась.
Сделалось тихо-тихо.
Минька подождал немного и поднялся. С трудом отцепил руки и протёр от снежной пыли глаза.
…Тятя стоял, вытянув шею и напряженно вглядываясь назад, откуда приехали. Рука поднята в напряженной готовности обрушить кнут на лошадиный круп.
Минька тоже обернулся: увидел заснеженную дорогу, два длинных следа от саней, пляшущие снежинки… Ничего страшного.
Тятя, по-видимому, тоже успокоился. Даже подмигнул Миньке. Неторопливо махнул вожжами.
«Вот так – верно, – подумал Минька. – Каурка – чужая кобыла, разве можно её кнутом..? Не можно!»
Дальше ехали смирно. И от тулупа тятьки шёл пар. От крупа и спины Каурки тоже. Минька открыл рот и дунул. Пар поднялся и из его рта.
Зимний лес был так необычен. Светлый, чистый и торжественный, как на праздник. Минька бы наслаждался, но на душе было гадко. Блеклое солнце, голое и белёсое, будто утонувшее в кадке с молоком, лениво цеплялось за стволы и ветви голых деревьев. И вроде бы солнце слепило, но вдоль дороги пошла полоса ёлок и сосен. Те росли так темно и густо, в них яркий свет тонул, лишь зло высвёркивая в промежутках.
Стая крупных птиц, испуганная санями, вспорхнула прямо из сугроба и с ворчливым «фррр» полетела в лес. Сани мерно скрипели и покачивались, тятя иногда хлопал вожжами, холодный воздух цапал за щёки.
Сани остановились у старой берёзы. Должно быть, дерево сломалось ещё летом, и толстая замшелая ветвь рухнула на землю.
Тятя слез и достал из-под сиденья топор. Он начал рубить обломившуюся ветвь на плашки, чтобы затем погрузить на волокушу. Дрова – они всегда пригодятся, – так, видимо, подумал тятя. Не пропадать же добру!
Минька спрыгнул с саней – размять ноги, к тому же сильно хотелось «по маленькому».
Минька отошёл с дороги. Он стянул большие рукавицы, но как справиться с пуговицами на шубе? Да с перевязанным крест-накрест большим платком..?
Минька возился с непослушными костяными пуговицами, как тут…
Тут он почуял, будто глядит кто-то пристально, поднял глаза – и замер.
На Миньку смотрел сверху вниз громадного размера великан. Великан закутался в снежные хлопья, раздутый, как хлебная закваска в кадке, и сугробы вокруг обступили Миньку.
– Лиходей! – охнул Минька и не узнал своего голоса.
Лиходей ростом был до неба, из его заснеженного туловища торчали руки – корявые ветки да сучья с острыми пальцами…
Минька застыл.
Сразу вспомнилось ему, как грозила баушка:
– В своём огороде репы мало? В чужой полез? Заберёт тебя лиходей за такие дела!