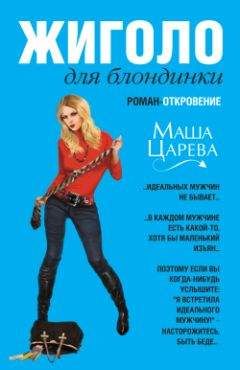Виктор Пелевин - Любовь к трем цукербринам
Надпись казалась шифром — она явно пыталась сообщить мне нечто важное в обход непосвященных. Но единственное тайное знание, которое я приобрел после этого ритуала, заключалось в том, что мне следует опасаться птиц.
Я попытался донести до служителя, замершего перед свитком в поклоне, что того же результата можно было добиться гораздо проще — изобразив на пергаменте, например, гадящего с высоты воробушка. Его тело тут же стало сокращаться в приступах тихого смеха. Киклоп изрядно пошутил...
Мне, однако, было не до шуток. Надо мной нависла опасность, а я не понимал ее природы и не видел источника. Но предупреждение помогло: именно оно — или, вернее, вызванная им бытовая осторожность, чтобы не сказать пугливость, и спасли мне жизнь при атаке.
Был вечер. Я шел к метро по дороге домой с работы. Стоял один из тех прекрасных летних вечеров, что так обидно проводить в городе — хотя, если задуматься, в любом другом месте они угаснут так же быстро и бестолково. Но грустно мне было все равно.
Помню, я размышлял о том, что назначение красоты — терзать и мучить, поскольку по своей природе она просто обещание невозможного, и никакой другой сути у нее нет. Но если еще можно смириться с этой очевидностью применительно к человеческой красоте, отнести ту же простую мысль, например, к закату (небо сверкало пурпурными императорскими огнями) уже сложнее.
С размножением все понятно, думал я, но зачем материальному миру мучить и обманывать нас надеждой на то, чего в нем не бывает? Да чтобы мы продолжали здесь оставаться — и на что-то такое надеяться... Увы, во многой мудрости много печали, и тот, кто видел изнутри столько сердец, сколько я...
Я шел по тротуару, услаждал себя этими закатными размышлизмами и одновременно чувствовал, как в моем сердце нарастает странная тревога. У нее не было понятных мне причин — я не видел в сгущениях и узлах реальности никаких направленных в мою сторону шипов.
Вокруг все было довольно ординарно: в башне через дорогу отставной судья расчленял в ванной пожилую родственницу в видах на ее деревенский дом, дети во дворе, мимо которого я шел, убивали уже смирившегося с судьбой рыжего кота, да еще в пятиэтажке неподалеку три рязанских бандита проверяли оружие перед намеченным на ночь налетом (последние русские пассионарии, ценнейшие в генетическом отношении — а ведь сгниют в тюрьме). Обычный городской ноктюрн, в иные дни вокруг бывало и мрачнее. Ни один из этих бытовых выплесков танатоса не угрожал ни стабильности мироздания, ни лично мне.
Тем не менее моя тревога все усиливалась, и я не мог понять ее причины. Я снова увидел служителя, простирающегося в тайной комнате перед папирусом Тота — он послал мне мысленную просьбу быть настороже. И вдруг во мне сработал какой-то совершенно даже не человеческий, а просто звериный инстинкт.
Я остановился — и отпрыгнул назад.
И в ту же секунду прямо передо мной в асфальт врезался человек.
Я успел увидеть его еще живым, сосредоточенным и целеустремленным (именно такое ощущение вызвало промелькнувшее передо мной лицо с вдохновенно поднятыми над головой волосами — он словно бы куда-то очень спешил, или, может быть, скакал на невидимом коне) — а потом, после отвратительно тяжелого удара, от звука которого у меня внутри все оборвалось, он повернул ко мне лицо, захрипел, несколько раз моргнул и закрыл глаза.
Удар человека об асфальт был страшным в своей фантасмагоричности — бедняга как бы попытался пройти сквозь стену, и это почти получилось, но оказалось, что не совсем и за попытку колдовства придется дорого заплатить...
Самым странным было то, что за секунду до удара я не видел надвигающейся катастрофы.
Ум разбившегося передо мной человека (он уже умирал, тут сомнений не оставалось) был полностью от меня скрыт. Чувство опасности, в самом прямом смысле нависшей надо мной, остановило меня в метре от гибели — если бы я не прыгнул назад, бедняга убил бы меня своим телом.
Подчиняясь тому же инстинкту, который только что заставил меня отпрыгнуть, я шагнул к умирающему, присел рядом на корточки и взял его за руку. В эту секунду я думал только о том, чтобы помочь ему. Но когда мои пальцы коснулись его ладони, я ощутил контакт с его уже сворачивающимся и исчезающим сознанием, и это было как разряд тока.
Его ум показался мне чем-то вроде колодца, на дне которого был я. А сверху, издалека-издалека, на меня смотрели два или три лица, склонившихся над краем этого колодца...
Или, вернее, не лица.
Там были птичьи головы — каждая глядела на меня одним глазом, повернувшись в профиль и показывая мне выгнутый клюв.
Видение держалось перед моим мысленным взором очень недолго, две или три секунды, но за это время мой ум успел увидеть Врага — и понять его, проникнув во все хитросплетения его тайн, как вода входит в сеть подземных капилляров. Я знал теперь, как Птицы видят меня и кем считают...
И еще я понял, почему я не заметил человека, упавшего передо мной на дорогу. После того как он был захвачен Птицами и превращен ими в оружие, он как бы заснул и начал видеть сон. Его тело оставалось на последнем этаже дома (он там жил), а сознание исчезло из нашего мира, превратившись в подобие оптического прицела, через который Птицы пытались меня найти. Я просто успел заглянуть в прицел с другой стороны и увидел их. Для этого мне надо было взять умирающего за руку — в точности как советовал древний папирус. Я не уверен, что последовал совету сознательно. Скорее это оказалось совпадением.
Кем были Птицы?
Я попытаюсь объяснить — но здесь передо мной возникает серьезная проблема. Дело в том, что тот способ, которым я увидел и понял их, сильно отличается от прямого и почти без усилий переводимого в слова опыта моих проникновений в человеческие души. Это было больше похоже на скоростную съемку ночного кошмара, длившуюся в реальном времени лишь секунду или две, но в своем собственном измерении оказавшуюся достаточно протяженной.
И вот я понемногу вспоминал и проявлял увиденное, поражаясь его зыбкой страшной логике и точным, иногда жутко смешным соответствиям с известной мне дневной реальностью.
Я уже говорил про Инь-Ян, главный рисунок на гигантском блюде нашего мира. Одна из его половинок была всем живым, бешено рвущимся из земли к небу: сила, которая хотела быть. А вот та сила, которая хотела не быть...
В разные мгновения в мире людей (и даже животных) существует очень много слагаемых, действующих вдоль ее вектора. Они, в общем, известны — им обыкновенно посвящены первые минуты в каждом выпуске новостей. Но вот сердцевина этой силы, ее источник, ее главное сгущение — находятся не здесь.