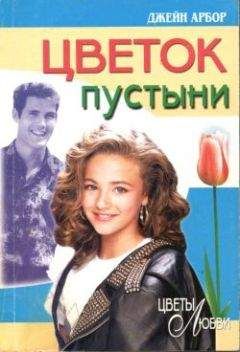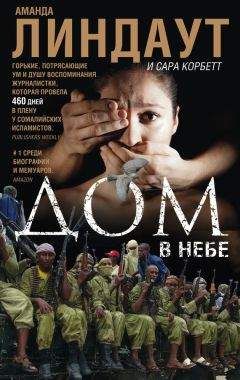Уорис Дири - Цветок пустыни
Я с ужасом и отвращением ожидала ритуала, который мне предстоит пройти, прежде чем стать взрослой. Я старалась гнать от себя жуткие воспоминания. Время шло, и гримаса боли на лице сестры постепенно изглаживалась из моей памяти. В конце концов я сумела убедить себя, что хочу стать взрослой женщиной, такой же, как мои старшие сестры.
С нами вместе всегда кочевала семья одного папиного друга. Это был ворчливый старикашка. Как только я или младшие сестренки надоедали ему, он отмахивался от нас, будто от назойливых мух, и приговаривал: «Ступайте прочь от меня, непотребные, нечистые девчонки! Вы же еще не обрезаны». Он вечно выплевывал слова с таким презрением, словно мы, необрезанные, были так противны, что он и смотрел-то на нас через силу. Это было до того обидно, что я мысленно поклялась во что бы то ни стало заставить его прекратить эти глупости.
У этого старика был сын-подросток, Джама, в которого я влюбилась, хотя он не обращал на меня никакого внимания. Джама интересовался не мною, а Аман. Со временем мне пришло в голову, что он не случайно отдает предпочтение моей сестре: она превосходила меня тем, что прошла обряд обрезания. Подражая своему отцу, Джама, скорее всего, не хотел водиться с нечистыми необрезанными девчонками. Мне было тогда лет пять. И вот я подошла к маме и стала упрашивать: «Мамочка, пожалуйста, найди мне ту женщину! Ну пожалуйста, когда ты это сделаешь?» Про себя же я думала: «Надо с этим покончить, сделать это таинственное дело». Мне повезло — не прошло и нескольких дней, как цыганка снова объявилась поблизости.
— Между прочим, отец случайно встретил цыганку, — сказала мне мама как-то вечером. — Вот, ждем ее, она в любой день может заглянуть к нам.
Вечером накануне обрезания мама велела мне не пить много — ни воды, ни молока, чтобы не так хотелось пи-пи. Я не понимала, для чего это нужно, но расспрашивать не стала, только молча кивнула. Я очень волновалась, но твердо решила побыстрее со всем этим покончить. В тот вечер вся семья хлопотала надо мной, и на обед я получила лишний кусок. Это была традиция: я видела, что так поступали со старшими сестрами, и завидовала им. Когда я уже ложилась спать, мама сказала:
— Я разбужу тебя утром, когда будет пора.
Уж не знаю, как она догадалась, что цыганка на подходе, только мама всегда все знала. Она интуитивно чувствовала, когда кто-то был поблизости от стоянки или что-нибудь должно было произойти.
В ту ночь я не могла уснуть от волнения, пока мама вдруг не оказалась рядом со мной. Было еще совсем темно, стояла пора предрассветных сумерек, когда небо неуловимо меняет свой цвет от черного к серому. Мама жестом показала, чтобы я молчала, и взяла меня за руку. Я схватила свое одеяло и, все еще полусонная, пошла за ней. Теперь-то я понимаю, почему обряд для девочек проводят до рассвета: их спешат обрезать, пока остальные еще спят, чтобы никто не услыхал их отчаянных криков. Но тогда я, хотя и была растеряна, послушно делала то, что мне велели. Мы шли все дальше от хижины, углубляясь в заросли.
— Подождем здесь, — сказала мама, и мы уселись на холодную землю.
Появились первые робкие проблески зари. Почти ничего вокруг нельзя было различить, но вот я услышала, как постукивают по земле сандалии цыганки. Мама окликнула ее по имени и спросила для верности:
— Это ты?
— Да, вот пришла, — послышался голос, хотя я по-прежнему никого не видела.
И вдруг цыганка оказалась возле меня, я даже не заметила, как она подошла.
— Садись-ка вон туда. — Она указала рукой на плоский камень, выступавший из земли.
Разговаривать она не собиралась, даже не поздоровалась. Никакого там «Как поживаешь?» или «Сегодня тебе будет очень больно, но ты потерпи, наберись храбрости». Ничего подобного. Живодерку интересовало только дело.
Мама отломила от корня старого дерева кусочек и усадила меня на камень. Сама она села позади, прижала мою голову к своей груди, а ногами широко раздвинула мои ноги. Я крепко обхватила руками ее бедра. Мама вставила кусок древесного корня мне между зубами:
— Прикуси покрепче.
Перед моим мысленным взором вдруг всплыло искаженное мукой лицо Аман, и я похолодела от ужаса.
— Больно же будет! — пробормотала я с трудом: мне мешал корень во рту.
— Ты же знаешь, что я тебя не удержу, — прошептала мама, наклонившись ко мне. — Я тут совсем одна. Так что постарайся быть умницей, малышка. Ради мамочки — будь смелой, и все быстро закончится.
Я взглянула вниз, пониже живота, и увидела, что цыганка заканчивает свои приготовления. Она была похожа на любую другую сомалийку — яркая пестрая накидка на голове, яркого цвета хлопчатобумажное платье, — только улыбки на лице не было. Она мрачно, как-то зловеще поглядывала на меня и копалась в своем дорожном мешке. Я не сводила с нее глаз — мне очень хотелось увидеть, чем она собирается меня резать. Мне казалось, что это будет большущий нож, но она достала из мешка маленькую холщовую суму, проворно запустила туда свои длинные пальцы и выудила обломок бритвы. Внимательно осмотрела, поворачивая то так, то эдак. Солнце только-только всходило: цвета уже можно было различить, но рассмотреть что-нибудь более подробно еще не удавалось. И все же я сумела разглядеть на зазубренном лезвии засохшую кровь. Цыганка поплевала на бритву и вытерла ее о край одежды. Пока она вытирала бритву, свет перед моими глазами померк: мама завязала их моей накидкой.
И сразу же я почувствовала, как режут мою плоть — отрезают гениталии. Я слышала этот звук: тупое лезвие пилило кожу, туда-сюда, туда-сюда. Вспоминая это теперь, я так и не могу поверить, что это происходило на самом деле. У меня такое чувство, будто я рассказываю о ком-то другом. Никакими словами невозможно объяснить, на что похожа эта операция. Ну, можно представить, что кто-то разрезает на кусочки твое бедро или отрезает тебе руку — только ведь режут самую чувствительную часть тела! И все же я даже не пошевелилась — я помнила об Аман и понимала, что спасения нет. И еще я хотела, чтобы мама могла мною гордиться. Я застыла, словно каменная, и убеждала себя: чем больше я стану вертеться, тем дольше продлится эта пытка. Увы, мои ноги задергались сами собою, затряслись мелкой дрожью, с этим было не совладать, и я стала молиться: «Господи Боже, пожалуйста, пусть это закончится побыстрее!» Так и случилось: я потеряла сознание.
Когда я очнулась, то подумала было, что все уже позади. На самом деле худшее только начиналось. Повязку с моих глаз сняли, и я увидела, что Живодерка сложила возле себя в кучку колючие веточки акации. Ими она прокалывала отверстия в моей коже, а потом продевала в эти отверстия прочную белую нитку — сшивала меня. Ноги у меня совершенно онемели, но между ними болело так сильно, что мне хотелось умереть. Мне показалось, что я отрываюсь от земли и лечу, оставляя боль позади. Я порхала над землей и видела, как эта женщина сшивает плоть, а бедная мама держит меня в своих объятиях. В то мгновение я ощутила полнейшее спокойствие; ничто меня больше не тревожило и не страшило.