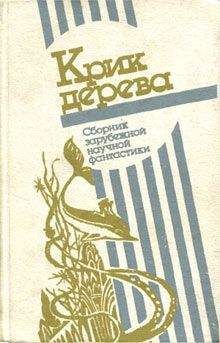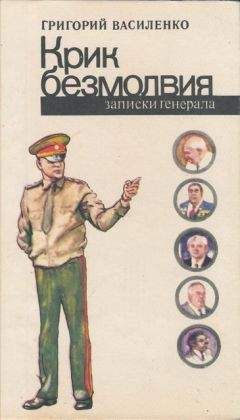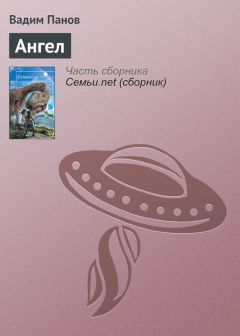Григорий Ряжский - Дом образцового содержания
– Так вот, для лобио требовалась фасоль трех видов: молодая, зрелая и недозрелая – в состоянии между нежным стручком и твердой горошиной. И тогда изрек Кемохе: «Слушай меня, о, народ мой. Я, Кемохе Первый, обещаю, что лобио, которое мы замутим, явится наивкуснейшим питанием для любого разумного человека на этой Земле, для чего мне понадобятся три вида фасоли. Теперь мы посадим ростки, а дальше уйдем в поход, с тем чтобы соединять племена на этой благословенной земле. Женщины останутся и соберут первый молодой урожай. Когда же вернемся мы, то сами отберем стручки, потребные для второго сбора. Третий сбор будет последним, и после него начнется новая эра жизни на этой еврейской земле».
И увел воинов соединять племена в народ. Но народ оказался гордым и объединяться захотел не сразу, а постепенно. И тогда Кемохе снова объявил, но уже племенам: «Я, Кемохе-завоеватель, обещаю вам, что, поверив мне и пойдя за мной, вы получите самое неизгладимое удовольствие для ваших желудков, потому что ничего слаще моей фасоли вы никогда не пробовали, о люди!»
Вот тогда народ поверил Кемохе, и сказал ему их главный по самому большому племени с первобытным именем Дзе, просто Дзе: «Мы пойдем за тобой, о Кемохе, веди нас к своему сладкому блюду, надоело нам жить среди гор и камней, мы спустимся в долины и станем хозяйствовать на земле вместе с вами, пробуя на вкус все, чему ты нас обучишь». И они вернулись в долины. Но к тому времени первый урожай фасоли был давно снят – так давно, что уже перезрел второй и почти вызрел третий, последний для настоящего лобио.
Кора уже почти начала по новой верить в историю собственного народа, но была остановлена Розой, которая, не выдержав, прыснула и таким образом подпортила повествовательный натурализм. Тем не менее, оставляя серьезную мину на лице, Георгий Евсеич близился к финалу:
– И тогда Кемохе решил, что должен отдать дань справедливости этому народу и этой земле, оставив ему слова его и доброту его, и сказал он: «Я, Кемохе Первый, не являюсь отныне Кемохе-завоевателем. Начиная с этого дня нарекайте и зовите меня именем, которое станет таким, как ваши имена, теперь я стану Кемохлидзе Первый, соединив свое имя с именем предводителя вашего племени. Или же просто – грузинский князь Кемохлидзе от иудейского живительного корня. Ну а сейчас, – сказал он, – займемся лобио, пока не перезрел последний урожай». С тех пор, – грустно резюмировал рассказчик, – лобио у грузин всего лишь двух сортов: молодое – зеленое и зрелое – бурое. Лично я больше люблю оба, – сказал он и захохотал, выпуская из себя накопившуюся веселость.
Отсмеявшись, подвел самую последнюю черту под сочиненной на ходу сказкой, обращаясь к жене:
– Таким образом, получается, что ты, Корачка, самая натуральная иудейская княгиня, полноценно подлежащая участию в праздновании иудейской Пасхи, на которую тебя вместе с твоим беспородным еврейским мужем и зовут.
И снова все засмеялись вслед за адвокатом. В такие минуты сердечная мышца Розы Мирской готова была бешено стучаться о грудину изнутри, доказывая неистребимую любовь к мужу, к сыну, к друзьям и ко всей ее так замечательно удавшейся, наполненной счастьем жизни.
Лишь Зина не понимала ничего из того, что происходило за столом, продолжая обносить гостей салатами на второй заход. Так, разве нескладные обрывки всяких шутейных разговоров.
Именно тогда, в какой-то из гостевых случаев, и пришла Георгию Евсеичу мысль о Зиночке, приведшая его к поступку, о котором Роза вспоминала потом долго и с негодованием.
Дело было на Пасху, году в тридцать втором, на еврейскую опять же, само собой. Стол снова был у них, у Мирских, – так почему-то получалось душевней. Кроме Зеленских, явился Аронсон с живой тогда еще супругой Соней, Ида, как обычно, – Розина сестра по линии отца, Марка Дворкина, с мужем Ильей и старшим сыном. Притащилась семья инженера-конструктора Каца в полном составе, по гроб жизни обязанного Семе руководящей работой и из кожи лезшего, чтобы лишний раз доказать уважительность к хозяину, оба Зеленских и кто-то еще от родни дальней, но близко к Мирским расположенной.
Родителей за столом уже не было никаких. Отец Семена Львовича, как и мать, оба в виде праха лежали больше десяти лет на Немецком кладбище. Розины же родители давно еще, сразу после дочкиного замужества, крепко поразмыслив, решили обрести новую родину, чтобы получилось подальше от большевиков. Органическая химия не столь бесплотна, как коммунизм, решил Марк Дворкин, она всем пока потребна, где в пробирках смешивают. В этом его поддержала и любимая жена, Рахиль.
Как раз в это время отмучился в подмосковных Горках лукавый Ильич, и в возникшей в стране неразберихе было чем основательно заняться большевистской верхушке, чтобы каждому не выпустить из рук по своему куску власти. Этим Дворкины и воспользовались под посмертный шумок, быстро упаковав вещи и выправив нужные паспорта себе и младшей Розиной сестре Броньке. География не обсуждалась – на подобные точные науки наилучший спрос оставался за океаном. Плыть предстояло из Европы, куда уже были закуплены билеты: сначала рельсовым экспрессом в Париж, затем паромом до Лондона, через Ла-Манш. Оттуда снова водой, но пересекать уже саму Атлантику.
С Розой обсуждать будущее не стали: знали, что бессмысленно. Просто обнялись, поплакали и простились навсегда. Мать вручила внушительный сверток: все семейное, родное, с чем и уезжать совершенно невозможно, а просто сбыть никак нельзя – фамильное.
В то, что – навсегда, Роза еще в те годы не верила и не понимала. Думала, через год-другой освободится немного Сема от архитектурных перегрузок, и тогда они навестят маму и отца, несмотря на так и не сложившиеся до конца отношения Дворкиных с Мирскими. Не вышло. И не только это – перестало получаться и другое: по маршруту Москва – Нью-Йорк и обратно письма стали пропадать начиная с двадцать седьмого года, и сколько ни пыталась Роза выяснить судьбу исчезающей в неизвестность переписки, ничего не выяснялось до конца. Так что покамест Пасха у Дворкиных с Мирскими праздновалась раздельно, у каждых на своем континенте, и всякий раз, пригубливая из бокала екатерининского стекла, что остались от мамы, Роза мысленно проговаривала на так и не забытом ею до конца идиш: «Зол дыр год гелфун майн либе мамочке, их геденк айх алэмен. (Храни тебя Бог, мамочка моя, я обо всех вас помню)».
А какой это был Бог, иудейский их – Яхве или же обыкновенный человеческий Иисус Христос, Роза знать не желала: ей было все равно, кто охранит ее самых близких от беды, какой из возможных этих богов. Она не самого его любила напрямую, Спасителя Небесного, в первый черед, как на Законе Божьем учили когда-то, она больше признавала своих родных и близких, а потому и его, Бога, заодно, а не наоборот.