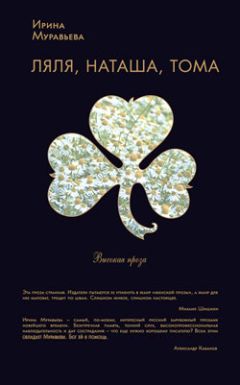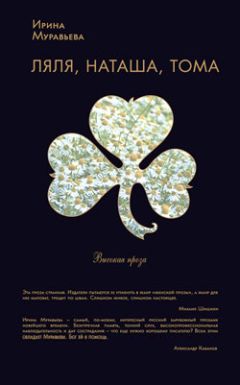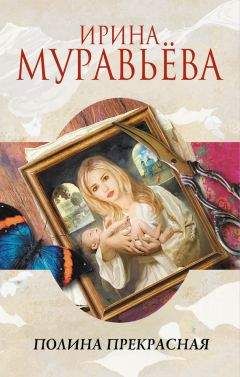Ирина Муравьева - Ляля, Наташа, Тома (сборник)
Все это не имело для него большого значения – Люда была хороша и без приданого. Так же, как отец, она имела склонность к полноте, но по молодости полнота эта была какой-то воздушной, как взбитый с сахаром белок, и, когда он обнимал ее прохладное тело в легком крепдешиновом платье, вся она казалась ему сладкой, словно в эту белизну и впрямь добавили немного сахару. Свадьбу сыграли летом, веселую и шумную, с Людиной стороны было много нарядных родственников, а с его стороны никого, кроме моего отца, тоже еще совсем молодого, с испуганным взглядом и тонкими усиками, делающими его похожим на хрупких альбомных героев начала века. В перерывах между тостами и танцами они негромко разговаривали между собой по-немецки, и отец по-прежнему называл его «Михель», потому что знал, что Мишами в этой стране зовут еще и медведей.
Прошлое наплывало, наваливалось в ночных кошмарах, от которых он, веселый жизнерадостный человек, просыпался в холодном поту и долго не мог прийти в себя, недоуменно разглядывая стеганый будуар, который сам же соорудил, перегородив центральную большую комнату так, что получилось две: розовая, Людина, ночью служившая им спальней, и голубая, Маришина, в которой подрастала, вытягиваясь в кокетливую, с темным материнским взглядом и хрипловатым низким голосом, дочка. Только ночь воровски, украдкой, пользуясь его крепким сном, его слабостью, возвращала вдруг ту беду, ту притаившуюся смерть, которой он избежал, перехитрил, не поддался…
Но теперь этот уют, эта новая квартира говорили ему о том, что он справился, все в порядке. Людина большая голова в розовых бигуди на фоне медленно светлеющей розовой стены, и виднеющиеся в приоткрытой двери спальни антикварные часы на стене, и кусок только что купленной прекрасной картины неизвестного художника («Портрет девушки на балконе») – все это успокаивало его, ободряло, обнадеживало. Студенты за глаза дразнили его Живчиком, а моя бабушка, с которой он, сияя и путая падежи, делился тем, какой у него скоро будет великолепный камин в холле, с помощью бамбуковой занавески уже превращенном в пятую по счету комнату, моя лукавая и знающая, как и с кем можно шутить, бабушка в глаза называла его «мещанином во дворянстве», на что он ничуть не обижался, а весело смеялся и целовал руку.
Жизнь сбывалась, полнела, тучнела, наливалась каким-то жирным вкусным соком. В квартире из пяти комнат появилось много картин и камин, правда не настоящий, но очень похожий, с открытой черно-мраморной пастью, где в беспорядке лежали глянцевые березовые поленья на темно-красной папиросной бумаге, под которой как-то хитро были спрятаны маленькие лампочки, так что, когда вечером зажигали их, создавалось полное впечатление ровного пламени, лижущего березовые бока.
Помню, как мы с отцом приходили к ним в гости. Считалось, что, несмотря на двухлетнюю разницу, я могу замечательно дружить с Маришей. Под антикварными часами накрывали стол, шумные, мстительно накрашенные женщины рассматривали в будуаре новые Людины «шмотки», мужчины располагались в кабинете, где на крытом зеленым сукном письменном столе стояла лысая античная голова с презрительно поджатыми тонкими губами, а на простеганной кожей стене висели четыре новенькие ракетки для только что вошедшей в моду игры «бадминтон». Курить выходили на светлую лестничную площадку, что-то вроде небольшого, уютного, общего для четырех квартир зала, где был пинг-понговый стол. Там эти полнеющие, с седыми висками гости, закатав рукава нейлоновых рубашек, резались на счет, пока хрипловатый, тянущийся сквозь сигаретный дым Людин голос не прерывал: «Мужчины, к столу!» Детей кормили в Маришиной комнате. Без конца звонил телефон, и Мариша, прикрыв трубку перламутровыми ноготками, ворковала в нее нестерпимо долго и ласково, не обращая на меня ни малейшего внимания, потом вдруг замолкала надолго и произносила резко и хрипловато, как мать: «Ты сам виноват!» Или: «Я не могу. У нас гости». Правда, после этого она нередко исчезала, бросив мне на ходу: «Сейчас вернусь, только выгуляю собаку!» Торопливо надевала крашенную под леопарда цигейковую шубку, застегивала красный ошейник на морщинистой шее огромного дымчатого дога и не возвращалась подолгу, так что иногда мы, уже уходя, заставали ее, румяную, припорошенную снегом, томную, в тот момент, когда она прощалась с очередным мальчиком в вестибюле. Мальчик взволнованно басил, теребя ее освобожденные от перчаток перламутровые пальчики, морщинистый дог покорно сидел рядом, а старая лифтерша, снисходительно крутя головой, вязала носки.
Однажды нас пригласили на музыкальный вечер. Вообще в этот дом часто приглашали на «кого-нибудь» или «что-нибудь», но моя память отчетливо сохранила только одно из таких приглашений. Должен был петь бывший аккомпаниатор Вертинского, оказавшийся родственником какого-то знакомого. Помню, как долго сидели за столом и хохотали над анекдотами, потом Люда низким голосом вставила, что самое главное для них с Мишей – это квартира, потом «шмотки», а потом уж еда, на что гости с полными ртами одобрительно поддержали ее, заметив только, что так, как она угощает, мало кто и умеет. Аккомпаниатор Вертинского налегал на коньяк и щурился. Наконец зажгли каминное пламя, знаменитость села за пианино, дог растянулся на ковре, и теплая голубая слюна потекла из его страдальчески опустившегося рта. Люда еще прикрикнула: «Мужчины, тихо!», и полные, с седеющими висками на полуслове оборвали разговор и притихли… Как мне показалось тогда, аккомпаниатор, похоронив своего знаменитого партнера, утвердился в мысли, что теперь он сам и есть Вертинский, потому что пел точно так же, как он, так же грассировал, а исполняя знаменитую песню «Ты не плачь, не плачь, моя красавица!», вдруг раскатился на последней фразе тем же неожиданным львиным рыком, которым раскатывается на пластинке покойный маэстро.
И так шли дни, заполняясь вещами, людьми, заботами. Зарастали плотным однообразием, удачными встречами, веселыми застольями. Правда, были и свои трудности, но он преодолевал их, потому что всякую жизнь любил до одурения, не позволял себе ни хандрить, ни тем более мучиться, и если бы надо было, опять согласился бы пройти все с самого начала: и войну, и лесоповал, и ледяной чулан с сизыми луковыми связками… Трудности же в основном касались следующего: прохладная воздушная белизна, казавшаяся прежде сладкой, стала теплым, обвисшим и до скуки знакомым телом, уже не привлекавшим и не радовавшим его, а, напротив, вызывавшим самые тоскливые мысли, когда он, лежа вечером под розовым одеялом, отрывал глаза от книги и видел, как в старинном зеркале отражаются ленивые движения его сидящей на розовом пуфе жены, которая, зевая и показывая темные пломбы, освобождалась от лифчика, и, уставшие от дневной несвободы, опускались на большой живот тяжелые груди с серыми сосками, а руки, поднятые к затылку и вынимающие шпильки из прически, вздрагивали избытком творожистой мякоти. Та же творожистая мякоть была в ее коротких ногах, когда она без юбки и комбинации, в одних шелковых трусах, приподнималась с пуфа и, приблизив к зеркалу лицо, ваткой снимала с век остатки зеленоватой косметики.
Надо было вести себя так, чтобы она, подурневшая Люда, не замечала его нелюбви и не подозревала измен. А измены случались, и часто, потому что, несмотря на невысокий рост и лысеющую голову, он нравился женщинам, они откликались на его ласковость и легкость, на эту непривычную в России польскую галантность, с которой он, например, подносил к задрожавшим губам женскую руку или подавал пальто осторожным и настойчивым движением. Но Люда чувствовала измены, угадывала их, и часто, вернувшись домой, он заставал ее неспящей, с зажатой во рту сигаретой, и тогда надо было отвратительно лгать, изворачиваться, унижаться.
– Ты где был? – хрипло спрашивала она, и ноздри ее короткого носа раздувались, покрываясь бисером пота.
Мерно били антикварные часы. Античная голова на столе, поджав мраморные губы, прислушивалась к нарастающему скандалу.
– Я же звонил тебе и предупредил, что буду поздно! Я же, кажется, все объяснил!
Рот ее беспомощно раскрывался, сигарета прыгала в пальцах.
– Он мне объяснил! А кто тебе верит? Опять валялся с какой-то дрянью!
– Хватит! – огрызался он, но негромко, чтобы не разбудить Маришу.
– Ха! – выдыхала Люда, зажимая ладонями красные пятна на шее. – Я засну после такого вечера? О ком ты думаешь, кроме себя? Только одно на уме! Но я этого так терпеть не буду! Ты у меня, миленький, вверх тормашками полетишь!
Морщась, как от зубной боли, он стелил себе в кабинете, но Люда шла за ним, застывала над его изголовьем, и хриплые угрозы продолжались, халат распахивался, обнажая молочно-белые колени и живот, перепоясанный рубцом от резинки шелковых панталон.
После ночи, проведенной на жестком диване под взглядом античной головы, он просыпался невыспавшимся, раздраженным, вяло шел в кухню, слышал плеск воды за дверью ванной – дочка торопилась в школу, варил себе кофе, делал бутерброд для Мариши, вспоминал, какие у него сегодня лекции, во сколько назначено заседание кафедры, и постепенно налаженное благополучие возвращалось. Музыкально шелестела бамбуковая занавеска, пропуская сквозь себя звонко зевающего дымчатого дога, хлопала дверь ванной, из которой выскакивала темноглазая грациозная девочка с перламутровыми ноготками, кофе вкусно пах, за окном разгоралась сухая солнечная весна, женщина, с которой он провел вчерашний вечер, обещала в одиннадцать позвонить ему на работу. Налаживалось, успокаивалось, светлело, и вскоре даже мрачный вид вышедшей из розового полумрака жены переставал удручать и раздражать его, и надо было только сказать ей, бледной, с убитыми глазами Люде, что-нибудь незначительное, спокойное, дружелюбное, что (и он знал это заранее!) она тут же с готовностью подхватит, примет, и эта готовность подтвердит ему, что жизнь их продолжается и будет в ней все то же самое: хлопоты по поводу любимой квартиры, туристическая путевка в Венгрию, Маришино поступление в институт, шумные поездки большой компанией с шашлыками и вольными шутками, стук пинг-понгового шарика, гости, работа, застолья, и где-то в самой глубине этого ежедневного месива, этого жирного вкусного варева останется ему огненный комочек запретных радостей и терпких волнений, которые опять вызовут безобразный домашний скандал, красные пятна на Людиной шее, скверное настроение после проведенной на жестком диване ночи. Но пусть все будет так, как есть, пусть будет.