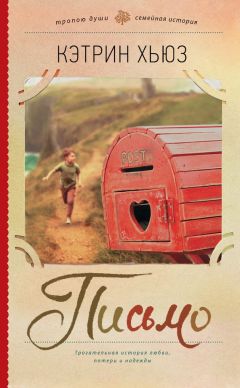Лионель Труйо - Дети героев
В первый день я дал себе слово, что смогу мириться с голодом и буду ждать, когда о еде заговорит Мариэла. Но через некоторое время от моей решимости не осталось и следа. Если у нас с Корасоном и есть что-то общее, то как раз это: наши добрые намерения долго не живут. Наутро второго дня я так захотел есть, что чувство голода заглушило во мне совесть. Я пообещал, что подожду, пока не проголодается Мариэла, но чего стоит обещание, данное без свидетелей? Я был готов сдаться, крикнуть ей, чтобы остановилась, потому что это она во всем виновата. Утром второго дня я был готов заговорить языком своего брюха. К счастью, Мариэла не задала мне ни одного вопроса, просто сказала, что надо поесть, так что проблема с голодом должна была решиться. И все-таки я злился, что опять оказался вторым. После нашей встречи с механиком и проповедником мы довольно долго бродили по улицам. Наступал день. Чтобы добыть еды, нам всего-то и требовалось пойти в промышленный район. Там всегда стояли торговки с горячей едой для рабочих окрестных фабрик. Из уважения к ман-Ивонне из их множества мы выбрали ту, чей ларек показался нам самым чистым. Кастрюли с готовыми блюдами были накрыты плотной пластиковой пленкой, а сам ларек располагался на некотором расстоянии от улицы, в шатком сооружении наподобие сарайчика, подальше от поливалок и проезжающих мимо огромных грузовиков, поднимавших густые облака пыли. Прочие торговки устроились прямо на тротуаре. Скорее всего, ман-Ивонна решила бы, что пара-тройка метров, отделяющая прилавок от проезжей части, не может служить достаточной гарантией чистоты. Ман-Ивонна мыла руки каждый раз, когда садилась за стол. Она говорила, что в ее время министр здравоохранения не просто так занимал свою должность, а теперь, пожалуйста, у них кухня прямо на улице. Если бы только Колен… Она продолжала называть его Коленом, хотя мы имели дело только с Корасоном. А Колен… Ну, может, он и существовал, но в другую эпоху, где была мать, работавшая на госслужбе, были разговоры о воспитании и хороших манерах. Был отец, готовый бегать по городу в поисках игрушек для сына. Корасон, в отличие от него, с большим удовольствием уплетал стряпню уличных торговок, попутно потчуя других рабочих автомастерской рассказами о Джо Луисе. Ман-Ивонна советовала нам не делать, как он. Никогда ничего не покупайте на улице. Ман-Ивонна просто перепутала детей: она говорила с нами на том же языке, каким разговаривала с Корасоном, когда он был в нашем возрасте. У Корасона-то был выбор: он мог есть дома, сидя за столом, пользуясь ножом и вилкой и слушая ласковые наставления отца с матерью. Но мы — другое дело. Мы покупаем еду на улице не потому, что мы строптивые и нам так захотелось, а потому что она дешевая. Мариэла подсчитала: денег должно хватить на две порции, и еще кое-что останется. В порцию входил белый рис, вареные овощи, мясная котлета и кусочек сладкого картофеля. Большинство рабочих ели стоя, чтобы побыстрее, но некоторые вытащили из груды строительного мусора, образовавшейся на месте разрушенного дома, кирпичи и доски и устроили себе шаткие сиденья, — эти жевали не спеша. Прежде чем протянуть нам миски, торговка потребовала, чтобы мы показали ей, что нам есть чем заплатить: «А то тут одни такие умные меня уже раз накололи». Она наклонялась и под порывами ветра отмеряла порции. Ложка соуса, две ложки риса, еще ложка соуса к овощам, кусок мяса. Каждый раз она торопливо накрывала очередную кастрюлю, чтобы внутрь не нанесло песка и пыли. Покончив с едой, рабочие ставили миски и клали ложки на скамейку. Девчонка забирала посуду, полоскала в лохани с водой и отдавала торговке, которая вытирала ее своим фартуком, наполняла и протягивала следующему клиенту. Кроме того, девчонка поддерживала огонь в жаровне и отгоняла собак, крутившихся вокруг кастрюли с мясом. Подождете, ребята, ничего с вами не сделается. Сначала обслужу своих постоянных покупателей, они торопятся. Люблю солидную публику. Рабочие в ответ на ее лесть только ворчали и ругались. Нужна нам твоя любовь, ты вон каждый месяц цены задираешь, а порции у тебя все меньше. Вот выиграю в лотерею, так пойду в настоящий ресторан. Ага, ты еще расскажи, что станешь хозяином. А нас, чтобы не платить за переработку, пригласишь в «Тиффани» вместе с женами и детьми. Кстати, о женах и детях. Слыхали, что случилось в районе Национального форта? Двое детишек своего папашу ухлопали. По радио передавали. Я как раз искал спортивную станцию. А что я вам говорила: с детьми глаз да глаз. Воспитываешь их, воспитываешь, учишь-учишь, а поди разбери, что они там себе думают… Мы не испугались этого разговора и спокойно съели все, за что заплатили. Кость я бросил собакам, как оказалось, зря: они тут же затеяли свару, в которой победил самый здоровый пес, а остальные уставились на меня с упреком — зачем я дал им несбыточную надежду? Рабочие прогнали собак. Не за то они выложили свои денежки, чтобы бродячие псы портили им аппетит. Убедившаяся в нашей платежеспособности торговка предложила нам по стакану сока, но мы предпочли банку кока-колы. Еда-то ладно. Она готовится на огне, а огонь, так же как лимонный сок, обладает дезинфицирующими свойствами. В нашем квартале все мамаши только так и лечат всякие раны. Но сок… Хоть Мариэла и не была повернута на чистоте, как ман-Ивонна, но от сока наотрез отказалась. Торговка была права. Одно дело родить детей, а совсем другое — понять, о чем они думают и что чувствуют. Не будь рядом Мариэлы, я выпил бы сок не поморщившись, хотя отлично знал, что он наверняка разбавлен водой из ближайшей канавы или из ведра, в котором чего только не держат. Нет во мне бойцовского духа. Когда мне говорят «выйди», я выхожу. Мне говорят «ешь», я ем, даже не давая себе труда задуматься. В любом случае тот, кто сильнее, заставит тебя поступить по-своему, как эти тощие безмозглые собаки, которых подрал здоровый пес, отобравший у них кость. Они повели себя как последние дуры. Ясно же было с самого начала, что у них нет ни одного шанса. К тому же, как только я услышал, что про нас говорили по радио, в память мгновенно вернулись все события вчерашнего дня. И еще я начал скучать по друзьям и Жозефине. Сколько еще времени я не смогу с ними увидеться? Мне было так тоскливо, что я выпил бы что угодно и согласился бы на что угодно. От одиночества очень быстро устаешь, и далеко не все люди на свете созданы сильными и способными к сопротивлению. Мариэла, как и я, слышала про радио, но тоже никак на это не отреагировала. Она казалась почти счастливой, и это меня ужасно злило, ведь это она была во всем виновата. Сестра знать не знала, о чем я думаю, но взяла с меня обещание: «Поклянись, что, когда нас поймают, ты ничего не расскажешь. Мы не обязаны никому ничего объяснять. Нам-то никто ничего не объяснил, с чего все началось и так далее. С какой стати мы должны им докладывать, чем все кончилось? Это никого, кроме нас, не касается. Это наше горе, и пусть никто в него не лезет. Только наше, как и наши мечты. Пообещай, что не проболтаешься». Я пообещал. Мариэла мне не поверила. Что-то изменилось между нами со вчерашнего дня. Мы шли рядом, совсем близко друг к другу, но как будто больше не были вместе. Слишком многое нас разделяло — ее сила, моя слабость. Когда толпа нас захватила и привела в полицейский участок, нас допрашивала целая куча инспекторов. Всем было любопытно на нас поглазеть. Разумеется, она слово сдержала, никому ничего не рассказала, и это обернули против нее. А я заговорил, потому что весь пошел в Жозефину и не могу жить один. И они приняли мою слабость за доброту, заявили, что признание является свидетельством раскаяния, но я вообще не считаю себя виноватым. Позже, когда нас разделили по-настоящему и заперли в разные камеры с другими заключенными нашего возраста и пола, я долго размышлял над тем, что говорила Мариэла насчет начала. Начало — это наша жизнь. Наша жизнь убила Корасона. Наша собачья жизнь, слишком далекая от надежды и слишком близкая к смерти. Это не мои слова. Я не умею разговаривать по-книжному. Так говорил Роземон. Он у нас отличник и читает книжки стихов.
* * *Как можно догадаться по его имени, Джонни Заика — не мастак вести речи. Слова с трудом пробивают себе путь через его горло. Если надо сказать что-нибудь важное, а слушателям некогда ждать, то, случается, кто-нибудь другой договаривает начатое за него. Другое дело Роземон. Этот выражается красиво, как по писаному, и коммуна даже выделила ему стипендию на обучение в школе из приличного квартала. Но только друзей заводишь не ради слов. На второй день была суббота. По субботам толстяк Майар приносит еду своему родичу Родригу, который почти три года живет в исправительной тюрьме. Родриг уже четвертый раз загремел в большой желтый дом на Похоронной улице. И несмотря на усилия адвоката — известного специалиста по темным делам, нанятого его семьей, — вряд ли стоит надеяться, что он когда-нибудь выйдет на свободу. Родриг — вор, причем воровство — его страсть. В промежутках между отсидками он тратит все свои деньги на коллекцию фильмов про гангстеров. Но интересоваться мало, надо еще иметь способности. Каждый раз, когда Родриг пытается ограбить какой-нибудь дом в приличном районе, его обязательно хватают охранники. И от местных бандитов, от настоящих, ему тоже достается. Когда его арестовали в последний раз, судья сказал, что дело настолько ясное, что незачем беспокоить суд. Вот он и живет в исправиловке, и хитроумный адвокат до сих пор не сумел добиться ни одного свидания с ним. Зато толстяк Майар на этом деле прославился. В бидонвиле не так много людей, имеющих отношение к государству, ни по-хорошему, ни по-плохому. Государство далеко, его существование нас не колышет, как и оно вспоминает о нас, только если случается несчастье. Всякий контакт с внешним миром считается у нас за большую честь, и кому удается обратить на себя внимание — крут, примерно как мы с ман-Ивонной. Семья толстяка Майара очень гордится тем, что вступила в конфликт с государством. Ради такого случая они даже выучили несколько красивых выражений, какие употребляют в судах. Даже толстяк Майар, который на одно способен — щупать девок, и тот время от времени выдает нам что-нибудь этакое: нарушение процедуры, рецидивист и так далее. Для нас эти незнакомые слова звучат как оскорбления или как истины чужого, высшего мира, что-то вроде пословиц, понятных только посвященным. На второй день была суббота. Значит, толстяк Майар понесет еженедельную передачу своему родственнику-«рецидивисту». Я не сомневался, что Джонни Заика, а может, и Марсель тоже увяжутся с ним. Мы не договаривались о встрече. У нас с Джонни так часто бывает. Мы так много времени проводим вместе, что в каком-то смысле стали частью друг друга. Каждый из нас сразу догадывается, чего хочет второй, и нам не надо тратить время на слова. Наши пути-дорожки постоянно пересекались, хотя мы ничего заранее не планировали. Как-то раз мы решили сделать воздушного змея, вернее, и мне и ему одновременно этого захотелось. Ну, мелькнуло такое желание. И вот я отправился на свалку мебельной фабрики порыться в мусоре и на тропинке, которой пользуются только дети и подростки, чтобы срезать путь, потому что вонь там стоит неимоверная, столкнулся с Джонни. Оказывается, его осенила та же самая идея, так что дальше мы пошли вместе. Мы с ним ни единым словом не перемолвились. Наша с Джонни дружба всегда была такой — молчаливой. На второй день была суббота. Я сказал Мариэле, что надо двигать в район исправиловки. Говорил я таким уверенным тоном, что она послушно пошла за мной, не задав ни одного вопроса. В кои-то веки я шагал впереди. Мы остановились в нескольких метрах от тюрьмы, перед служебным входом в государственную типографию. Рабочие выносили оттуда объемистые пачки и грузили в багажники служебных машин. Мариэла объяснила мне: это последний номер газеты «Журналь офисьель», в которой публикуют государственные законы и постановления правительства. Я все еще злился, не хотел ее слушать. Впервые в жизни я испытывал к ней ненависть. В моих глазах она могла прочитать: это ты во всем виновата. Мне было позарез необходимо искупаться в ненависти, сорваться в истерику и выплеснуть на кого-то свою боль. А кроме Мариэлы никого рядом не было. Я чувствовал приближение приступа. Со мной это случается, когда мне очень плохо. Корасон обычно брал меня на руки, нес на улицу и опускал лицом в бадью с водой, чтобы я успокоился. Истерика — это гнев слабых. Если тебе есть что сказать, не финти и говори прямо. Я хотел сказать ей прямо. Она смотрела на рабочих, которые выносили пачки на плечах и как попало сбрасывали в багажники машин, не трудясь укладывать ровно. Водители, стоя возле урчащих автомобилей, их поторапливали. Как только багажник наполнялся, машина на бешеной скорости срывалась с места и под завывание сирены уносилась прочь, заставляя расступаться родственников заключенных, толпившихся в очереди перед главным входом в здание. Матери и жены плакали, дальние родственники, старики и дети стояли опустив голову или смотрели в сторону. Им было стыдно находиться здесь, и они напускали на лица отсутствующее выражение, как бы извиняясь и говоря: «Ну что ж поделаешь, если у него, того, что парится в тюрьме, больше нет никого из близких, ну, не смогла его мать прийти, или жена, или брат, — кто-то из тех, кто и правда любит этого кретина, позволившего засадить себя за решетку». Перед тем как пропустить посетителей внутрь, тюремные надзиратели их обыскивали, проверяли карманы, лезли в сумки, рылись в корзинках с провизией, вскрывали даже сигаретные пачки и новые обувные коробки — подарки для бизнесменов и отпрысков приличных семей. В толпе был и толстяк Майар, мы слышали его голос, видели, как он открывает крышку кастрюли (тыквенная похлебка) и объясняет: «К Родригу, отделение рецидивистов». Он благополучно прошел проверку и исчез во дворе исправительной тюрьмы. Один. Ни следа Джонни. Раньше мы все время встречались, ни о чем заранее не договариваясь, но тогда я еще никого не убивал. Наверное, каждый из нас догадывался, до чего второй может дойти. Наверное, после того, как я держал Корасона за ноги, пока Мариэла снова и снова била его гаечным ключом, я перешел в какую-то другую категорию, поднялся на более высокий уровень или ступил на запретную территорию, куда слишком робкому Джонни ходу не было. Бедный Джонни, он в своей жизни не совершил ничего плохого. Между тем, чтобы запускать ящериц в дом толстяка Майара и пугать сумасшедшую старуху, которая и так боится всего на свете, начиная от воды и неба и заканчивая грязными тряпками, и тем, чтобы помогать сестре раскроить отцу череп гаечным ключом, лежит пропасть. Джонни не придет. Одиночество — невеселая штука. Я злился на Мариэлу, на Корасона, на Джонни, на Жозефину — на всех, но больше всего на Мариэлу. Я пнул ногой пачку газет. Грузчик не обратил на мою выходку ни малейшего внимания, и я пошел прочь, даже не сказав Мариэле, куда иду, и не поинтересовавшись, куда собирается идти она. Она последовала за мной, предоставив мне право самому определить дистанцию между нами. Ну да, это же была моя идея и мой друг, значит, и разочарование полагалось мне. Я остановился на площади Карла Бруара. Это маленькая, ничем не примечательная площадь, ничего общего с Марсовым Полем. На площади Карла Бруара вообще ничего нет, во всяком случае в тот день там не было ни души. Только несколько отважных птиц, облетевших расположенные в центре города магазины, вонючий тюремный двор и примостившиеся под балконами скобяных лавок и адвокатских контор, прилавки торговцев пластмассовой посудой, поношенной одеждой и американской обувью, теперь грузно плюхались на окрестные чахлые кусты. Эти старые птицы, грязные и больные, собирались на маленькой площади с растрескавшейся почвой, чтобы дождаться конца дня посреди сломанных скамеек и камней на месте травы, прохудившихся горшков с пересохшей землей, в которых по идее должны были расти цветы, за железной решеткой, такой же ржавой, как и ворота тюремного двора. Надпись под бюстом сообщала, что Карл Бруар был великим поэтом. Лично мне поэты до лампочки, а этот даже не сумел заполучить себе более или менее приличную площадь. Площадь Карла Бруара такая же замызганная, как переходы бидонвиля или тюремный двор. Там растут полудохлые лавровые кусты, заскорузлые, как старушечье тело. Площадь Карла Бруара — никакая не площадь. А жизнь — не жизнь. Все это — ничто. Или все. Пустота. Полнота. Ожидание и страх ожидания. Все противоположности одновременно. Тысячи способов увидеть смерть. Приступ кашля. За ним — еще один, накативший второй волной, и бессвязные слова, которых я уже не помню. Крики и основание бюста, о которое я бился головой, чтобы изгнать из нее шум и заполнить освободившееся пространство спокойствием и жестокостью. Мариэла сделала было шаг мне навстречу. Я сказал ей сначала глазами, потом ртом, а потом всем телом: «Это ты во всем виновата!» В висках у меня грохотали все звуки мира: хруст костей, ломающихся под ударами гаечного ключа; звучали тысячи голосов — голос Корасона, который больше не произнесет ни звука; хриплый голос проповедника; тихий голос Жозефины, достигающий самых печенок; блеяние Джонни Заики, лишающего меня своей дружбы; обещания ман-Ивонны, сменяющиеся упреками. Весь город хором цитировал мне пословицы, гремела музыка самодеятельных оркестров, в дни поста проходящих через бидонвиль, узники тюрьмы вопили: «Давай к нам, добро пожаловать», — а плакальщицы лили слезы вместе с Жозефиной. Так много голосов. И картины, картины, как фотографии. Вот Корасон падает на пол. Вот Мариэла с гаечным ключом. Вот Жозефина плачет и молится. Вот я вцепился в ноги Корасону и жду, когда он упадет. Вот Корасон падает с раскроенным черепом. Гаечный ключ возле мертвого тела. Я протягиваю руку, чтобы его поднять. Мариэла смеется. Смерть — не подружка, с которой можно играть в «бородку»[8]. Если уж она тебя ухватила, то не отпустит. Джонни, повернувшийся ко мне спиной, и Марсель, и Роземон — все до единого. И снова Корасон в падении, и Мариэла с ключом, и Жозефина снова плачет и молится. И тюремная камера, в которой я ни разу не был, но она кажется мне родной и знакомой. И толстяк Майар, который приносит мне суп и говорит: «Да ты еще хуже рецидивиста». И опять падающий Корасон, мертвый… и почему-то воскресший, еще более лживый, чем всегда. Красавец Корасон, он в отличной форме, он кружит Мариэлу волчком и помогает мне запускать воздушного змея. А потом настоящий Корасон, он толкает Жозефину в глубину комнаты, походя дает мне пинка под зад, чтобы я не подумал, что он забыл, как я его доставал, когда заболел малярией. Все эти звуки и картины теснились у меня в голове, как бывает при мигрени, когда боль поднимается от кончиков ног, на миг застревает в горле и проникает прямо в мозг. И жара, охватившая все тело, и кашель, разрывающий пополам, неостановимый, как во время приступов малярии. Я смотрел на себя как на чужого, смотрел, как бегу, и слышал, как кричу: «Это ты во всем виновата!» Мариэла побежала за мной, расстроенная и безупречная, как всегда: «Ругай меня как хочешь, потому что, кроме тебя, у меня никого нет. Плачь, кричи сколько хочешь. Можешь меня укусить, если это поможет тебе выжить, потому что у меня, кроме тебя, никого нет. Мы с тобой одни на целом свете, у нас больше ничего нет, только пара гурдов». Мариэла не обиделась, она любила меня, несмотря на мои оскорбления. Она услышала все звуки и шумы, что бурлили у меня в голове, пыталась найти слова, чтобы заставить их смолкнуть. Мариэла — моя последняя надежда, моя несчастная сестра, в отчаянии застывшая перед разделившей нас шумовой стеной, выросшей у меня в мозгу. И живая Мариэла, которой неведомо отчаяние. «Это ты во всем виновата!» — крикнул я ей прямо в лицо и принялся биться головой о пьедестал бюста поэта. Мариэла даже не подумала оправдываться. Она обняла меня, потому что больше некому было сделать это, прижала к себе, к своей девической груди, так же, когда я в первый раз танцевал с ней. К своей груди, на которую смотрел сальными глазами механик с железнодорожной улицы, заставляя меня видеть то, что видел он, и питать те же надежды, что питал он. На ее грудь, перемазанную тем же дерьмом, что и моя. На ее юную грудь, постаревшую в один миг, потому что чем громче я кричал, тем старательнее она искала слова, чтобы успокоить. Чем слабее я был, напоминая сосунка, тем сильнее ей приходилось быть, чтобы заменить мне отца, мать и стать единственным для меня источником нежности. И ее покой передался мне. Моя боль стала ее болью. Я не слышал, что она говорила, не мог вникнуть в смысл ее слов, но цеплялся за их мелодию. Понемногу песня, которую она пела, вытеснила шум и заставила поблекнуть картины, убивающие меня изнутри. Ее голос звучал сладко, как счастье, способное длиться вечно. Хотя мы оба знали, что эта песня — прощальная, наше будущее принадлежало той странной, безликой вещи под названием «закон». Закону и слухам. Мелодия Мариэлы лилась, исполненная нежности, и ее голос служил нам защитой. В нем не было ни прошлого, ни будущего. Мы на время успокоились, забыли обо всем и перестали бояться. Мы еще никого не убили, нас ничто не разлучит, и я заснул. Для меня в мире не осталось ничего, кроме этой песни, прекрасной песни, похожей на колыбельную. Я забылся и очнулся лишь тогда, когда перед нами возникли Марсель и Джонни Заика, как будто из иного мира, как будто они пришли только затем, чтобы прочитать надпись на памятнике. Первым заговорил Марсель. У них очень мало времени. Они сумели отвязаться от толстяка Майара и шли за нами по пятам от самой государственной типографии. Марсель повел себя честно. Он не скрыл, что идея принадлежала Джонни. Все время, что он говорил, мы с Джонни смотрели друг другу в глаза и без слов понимали, что, наверное, видимся в последний раз — на этой убогой площади, куда никто не сует носу. Только птицы, слишком грязные, слишком тощие. В них было так мало птичьего, что никто не захотел бы поделиться с ними своими мечтами или поймать их, чтобы съесть.