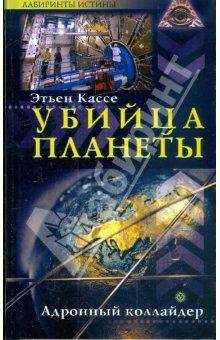Максим Кантор - В ту сторону
— Расстроится Зоя Тарасовна, — сказала Маша, — вы уж выпейте.
— А сама не могла прийти?
— Зоя Тарасовна занята — у нее целители, а потом этот Басик придет, они кофе пить будут.
И Татарников обрадовался, что жены не будет, — он лежал и тихо глядел в серый потолок, и считал минуты. Вот еще одна минута жизни прошла, и еще одна. А сколько их всего, этих минут?
— У меня вот муж умер, Сергей Ильич, — сказала Маша и заплакала.
Татарников смотрел, как она плачет, и ничего не чувствовал, сострадания и жалости не чувствовал. Вот еще один человек умер. Да, умер.
— Вы скажите Зое Тарасовне, чтобы денег прибавила, — сказала Маша, — нечего нам с сыночкой кушать.
— Денег нет, Маша, — сказал Татарников.
— А домработницу зачем взяли? Когда денег нет, домработницу не берут!
И что было сказать на это? Он вовсе не хотел про это думать, времени оставалось так мало. Зоя хотела завести домработницу к приезду англичанина — но разве это объяснишь? Он закрыл глаза, пусть Маша уйдет, пусть посмотрит на него, поймет, что он устал — и уйдет.
— А то моего сыночку обижают, он ведь не русский. Вы скажите своей жене, чтобы деньги платила!
Сергей Ильич лежал тихо, ждал, пока уйдет Маша. Но она не уходила, а к ее голосу прибавился другой — тоненький плач. Ребенка привела, догадался Сергей Ильич. Зачем привела, ему же страшно в больнице. Он открыл глаза, постарался улыбнуться смуглому круглолицему мальчику. Улыбка вышла пугающей, и мальчик еще громче заплакал.
— Я скажу жене, она заплатит.
— А то ведь я одна совсем, Сергей Ильич. Хожу и прошу, хожу и прошу. Мне вот советуют: ты по вагонам с мальчиком ходи. А я думаю, там тоже устраиваться надо.
— Не ходи по вагонам. Я скажу жене.
— Обещали, что брат мужа приедет, меня к ним заберет. Так ведь не едет.
— Я достану денег. — Татарников сказал, а потом уже подумал, как обещание выполнить. У Бланка попрошу, подумал он. Он снова закрыл глаза, и его опять понесло по полю. Дальше, еще дальше, к горизонту, а горизонт распахивался новым холодным пространством, и конца не было ни холоду, ни больнице, ни боли.
Маша вскоре ушла, забрала своего татарчонка и ушла, стукнула палатная дверь, потом раздались новые шаги, потом кто-то тронул его за грудь — там, где кончалось бурое одеяло.
— Сергей Ильич, а вы считаете, в русской истории будет новый поворот? Западники проиграют славянофилам? Или все-таки западная идея выстоит?
— Не говори глупости. — Теперь Татарников знал, какая проблема главная. Поделиться этим он не умел, не знал, как слова подобрать.
— Куда теперь нам двигаться — в Европу или на Восток? — Ничего более странного у неподвижного больного и спросить было нельзя.
Антон пришел опять, верный мальчик, присел на пластмассовый стул у изножия кровати, там, где была прикреплена склянка с мочой. Длинный катетер шел от склянки под одеяло, соединялся там с неподвижным телом. Антон смотрел, как медленные буро-желтые капли стекают по трубке. Повисла капля мочи на конце трубки, покачалась, медленно отделилась, скатилась по стенке склянки.
— Сейчас, знаете, настроения в обществе — а вам это интересно? — меняются. Раньше все хотели стать европейцами, мои соседи по этажу считали, что они европейцы. В Париж летали по путевке. А теперь все говорят, что европейский путь себя не оправдал. Мои соседи больше в Париж не ездят.
— А куда? — Слово медленно, трудно стекло с губ. Точно капля мочи повисела, покачалась, упала.
— Теперь все москвичи летают на каникулы в Индию. Дешево и красиво. Теперь все говорят, что наша дорога идет на Восток.
Татарников смотрел в белый потолок.
— Какой Восток, милый мальчик. Где в России Восток? Воевали Восток, это да. Больше всего хотели в Персию. Куда же еще. Узбекистан, Туркмения. Туда хотели. Не в чухломские болота. Не удержали Восток, — по слову, медленно говорил Татарников, говорил издалека, с другого конца холодной степи.
— Получается, прав Петр Первый? Он ведь на Запад шел.
— Финляндия — это что, Запад, по-твоему? Чухонская клюква, эстляндская селедка да лифляндская сметанка, — умирающий зашелся хриплым смехом.
— А что же мы такое?
— Просто страна такая. Северная страна.
— И куда нам надо развиваться?
— Идем на север.
И тут снова пришла боль. Он попробовал приподняться на локтях, чтобы встретить ее грудью, но боль ударила в живот, а от живота пошла вверх, к горлу, запирая дыханье. Татарников откинулся назад и медленно стал приспосабливать свое тело к новым ощущениям. Это еще можно терпеть. Можно. Он теперь полз на север, в холодном поле, упираясь локтями в постель и легко подтаскивая тощие ноги. Сантиметр за сантиметром, вперед. Передохнул, переждал боль, опять пополз. Так, переползая от окопа к окопу, и держат оборону в степи.
— На север? Но на севере ничего нет. На Западе цивилизация, на Востоке культура, а на севере ведь нет ничего. Мерзлота.
— А надо культуру?
— Ну, все-таки.
— Дорога идет на север, — сказал Татарников.
— Не понимаю.
— Север, — сказал Татарников. — Поле холодное.
— Какое поле, Сергей Ильич?
— Поле.
Антон наклонился к нему ближе. Ему показалось, что Сергей Ильич готовится сказать. Вот сейчас он скажет.
— Такая судьба. Ползи, — сказал Татарников самому себе. — Ползи. Наше белое дело.
— Я понимаю, — сказал Антон, — это вы мне давно объясняли. Чтобы не искать привилегий, да? Destiny without destination. Помните, да? Вы меня этому учили.
Татарников смотрел на него и ничего не говорил, задыхался. Боль прошила его тело снизу доверху, и каждый сантиметр тела горел.
— Я правильно понимаю? Вы не молчите, мне очень интересно про север.
Татарников ничего не сказал, он собирал силы, чтобы проползти еще немного по степи. Осталось немного, он поползет.
— Путь без точки назначения? Судьба без цели? Так? Но должна же быть цель. Какая-то цель.
Татарников не ответил, боль скрутила его, и он закусил серое одеяло.
15
Знакомые давно ожидали чего-нибудь подобного. В сущности, Сергей Ильич постоянно был нездоров. Выглядел старше своих лет, за внешностью не следил, из дома выходил крайне редко. В общественной жизни участия не принимал, не ездил по редакциям, не посещал конференции. Такая жизнь — для интеллигента ненормальная — кончиться нормально не могла. Саша Бланк, друг детства, сказал так: «Он уже давно дал течь», — словно речь шла о плоскодонке. Татарников шел ко дну — ас палубы линкора публика наблюдала за тем, как он погружается в воду. Палубой линкора в данном случае являлся двор старинного московского особняка, где размещались сразу три интеллектуальные организации: Институт истории, Институт философии и редакция либеральной газеты. В закатные часы во дворе встречались историки, философы и журналисты и, покуривая, обменивались суждениями.
— Вот, допустим, звоню ему, — делился воспоминаниями Лев Ройтман, известный поэт, публикующий в газете философические эссе, — говорю: приходи на заседание Открытого общества. Даже спасибо не сказал. А мы всех подряд не зовем, между прочим! Два раза не приглашаем.
— Жалуется на бедность, — подхватила Румянцева, философ. — А как не быть бедным, если сидишь дома? Мы крутимся, ночей не спим! Муж, сын, рефераты студентов нечитанные. А еще ремонт на даче! И все на мне! Но я еду! Я еду на конференцию! Я пишу пять колонок в месяц — их ждут! Я не могу подводить людей!
Бланк отвел глаза, он предпочел бы, чтоб Румянцева писала пореже.
— Работаем! А он — лежит на диване и водку пьет. Тут не то что рак, тут… — Румянцева не придумала ничего страшнее рака и завершила речь просто. — Тут и не такие вещи могут случиться.
— Что же бывает хуже рака? — тихо спросил Бланк.
— Хуже рака, — заметил Ройтман, — есть много вещей. Например, холокост хуже рака.
При чем тут холокост, этого никто не понял, но реплика в устах еврея Ройтмана прозвучала убедительно, и возразить было нечего. Ройтман обвел собравшихся выпуклыми семитскими глазами, потер синюю от бритья щеку.
— Холокост, — сказал он еще раз. — Когда убивают намеренно — по признаку расы, детей, женщин, стариков. Это — да. Пугает. А рак можно вылечить, если вовремя заметить, конечно. К врачам ходить надо, вот и все.
— Зубы вставить и то не собрался, — тихо сказал Бланк. — Он ведь даже к дантистам не ходил.
Ройтман покачал головой. Уж если человек зубов вставить не может, дело дрянь. В наш-то век — и без зубов.
— Любопытно, — сказал Панин, — остались у Татарникова близкие люди или всех оттолкнул?
Бланк хотел сказать, что он дружит с Татарниковым, но ему показалось это заявление неуместным. Дружба с Татарниковым — совсем не то, чем сегодня нужно хвастаться. Татарников игнорировал своих коллег — надо ли удивляться, что и коллеги не выказали сочувствия его недугу. Общество, отказываясь от человека, руководствуется не объективными причинами, но инстинктом. Что-то в воздухе меняется, может быть, запах у отщепенца меняется, и люди начинают сторониться этого человека. От Татарникова действительно пахло бедой. Вот Ройтман, синещекий Ройтман, говорит про Холокост, а в воздухе пахнет шашлыком. И почему так — невозможно объяснить.