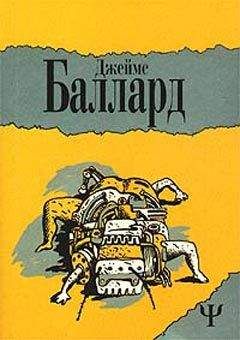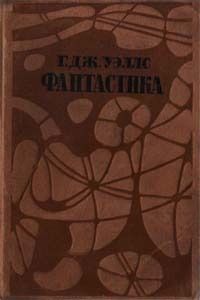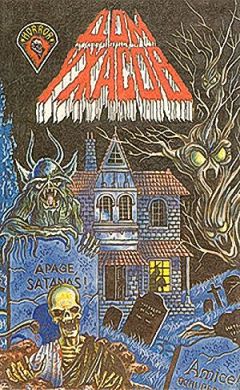Паскаль Лене - Казанова. Последняя любовь
— Бежим! Сегодня же вечером! — вскричал я.
— И поступим дурно, ибо господин д’Антуан решится дать моей семье доказательства своего рвения, предприняв розыски и подвергнув меня таким насильственным мерам, которых ты не выдержишь.
Генриетта была вынуждена вступить в переговоры с этим господином, черт бы его побрал! Они длились шесть часов, и было решено, что нам надлежит расстаться. Как только он ушел, она сообщила мне об этом, и мы долго вместе плакали в гнетущей тишине.
— Когда мне предстоит расстаться с тобой, моя обожаемая жена?
— Как только мы достигнем Женевы — места, назначенного для нашего расставания.
На ночь глядя мы покинули Парму. На пятый день прибыли в Женеву, одолев перевал Ченис по страшному холоду, от которого нам не повезло умереть. Мы спустились к постоялому двору „Весы“, куда на следующий день самолично явился банкир Троншен, чтобы передать Генриетте тысячу луидоров в обмен на письмо, которое она ему вручила. Он же достал для нее и карету, которая завтра должна была ее увезти. Это был ужасный миг моей жизни!
Последние сутки мы не нашли в себе иного красноречия, кроме красноречия слез и вздохов. Генриетта никак не способствовала зарождению во мне надежды, дабы смягчить удар, напротив убеждала:
— Раз необходимо нам расстаться, мой единственный друг, прошу тебя никогда не справляться обо мне, если же тебе случайно доведется узнать, кто я, забудь, если же ты встретишь меня случайно, сделай вид, что мы незнакомы.
Она попросила меня также не покидать Женеву раньше, чем я получу от нее весточку, которую она пошлет из первого же места, где остановится, чтобы поменять лошадей. На рассвете она уехала. Я смотрел ей вслед так долго, как только мог видеть ее карету.
На следующий день форейтор вернулся. Он довез ее до Шатийона. И передал мне письмо, в котором было одно лишь слово „Прощай!“. Этот человек рассказал мне, что до Шатийона добрались они без всяких затруднений и что далее госпожа отправилась по Лионской дороге. Я мог покинуть Женеву лишь на следующий день и провел в своей комнате один из самых грустных дней моей жизни. Я увидел на оконном стекле надпись, сделанную острой гранью алмаза, который я ей подарил:
Ты забудешь и Генриетту
~~~О нет, я не забыл ее! Когда я думаю, что под конец жизни счастлив лишь воспоминаниями, мне верится, что моя долгая жизнь была скорее счастливой, чем несчастной, и воспоминание о Генриетте — бальзам для моего сердца».
Казанова смолк и ушел в себя, словно еще не очнулся от привидевшегося ему сна. Г-жа де Фонколомб, казалось, тоже погрузилась в упоительный сон, в котором очутилась благодаря рассказу, да так естественно, будто это были ее собственные воспоминания. Затем спросила:
— Вы так никогда и не узнали, кем была ваша Генриетта?
— Я никогда не узнал даже ее имени. «Не справляйся обо мне, если же тебе случайно доведется узнать, кто я, забудь».
— Не правда ли, странная просьба со стороны любящей женщины?
— Генриетта пожелала остаться сном, который привиделся мне в юности, но не переставал меня посещать. Она стала бы менее совершенной, будь у нее имя, муж, дети. Ее образ мало-помалу поблек бы в моей памяти, как годы сделали бы ее неузнаваемой.
— Значит, вы раскусили ее замысел! — воскликнула г-жа де Фонколомб.
Так за разговором прошла вся вторая половина дня. Низко стоящее солнце отражалось в красной и черной лакировке китайских комодов, словно в спокойной поверхности пруда. Послышался шум въезжающей во двор кареты. Это возвращалась с прогулки юная якобинка. Было слышно, как под колесами кареты скрипит гравий.
— Молодая женщина напоминает мне, каким я стал.
— Для Генриетты вы навсегда остались молодым, так же, как она для вас. Будьте уверены, что с возрастом — может быть и не коснувшимся ее сердца, а только внешнего облика, — не чувствуя в себе сил возродить в вас былую к ней страсть, она бы желала, чтобы вы еще раз испытали любовь и с чистой радостью в душе видела бы вас счастливым, пусть и с другой, в последний раз, — и таким же дорогим ей и соблазнительным, как тогда, когда вам было только двадцать четыре.
~~~Г-н Розье установил стол на террасе, выходящей в сад, и накрыл ужин. За холмами, окаймляющими парк, блеснули последние солнечные лучи, и нежный июньский сумрак потихоньку завладел замком и купами деревьев.
Г-жа де Фонколомб любила это время суток; по ее мнению, стоило стемнеть — и незрячие начинали видеть то, что ускользало от зрячих. Она попросила Полину рассказать о ее прогулке.
Молодая женщина, однако, не была расположена подробно описывать красоты Богемских гор либо нравы здешних деревенских жителей, в столь же малой степени интересующих ее, как и, к примеру, дикари Патагонии, если только какая-нибудь местная селянка не попалась на глаза Казановы.
Г-жа де Фонколомб прекрасно понимала, что творится в душе гордячки: за ее неодобрительным видом скрывалась досада, которую она испытывала с тех пор, как разоблачила шашни Джакомо с Тонкой. Рассказ о прогулке был укорочен, поскольку ее в гораздо большей степени занимало то, что открылось ей за последние сутки. Она разразилась филиппикой, что весьма позабавило ее хозяйку. Обвиняемый, чью голову требовала на плаху извечного женского тщеславия юная революционерка, также молчал, не прерывая ее.
На еще чистом небе все чаще стали сверкать молнии. Г-н Розье подал лимонад и как ни в чем не бывало уселся между пожилой дамой и аббатом. Казанова держался чуть поодаль от остальных, как и подобало обвиняемому.
— Вы никогда не любили, — утверждала неутомимая ревнительница прав человека. — Вы были слишком увлечены тем, чтобы соблазнять, не важно кого. Вам годилось все. И потому ничто не было дорого. Вы даже не были способны по-настоящему желать, ибо надо отдать вам должное: вожделение владело вами в меньшей степени, чем непомерная, смехотворная претенциозность. Вы и победы-то одерживали лишь над кокетками, тем самым выказывая свою поразительную схожесть с ними и потакая их ничтожеству. И потому в вас меньше реальности, чем в персонажах итальянских фарсов, что были когда-то в моде, но безвозвратно устарели. Вы ищете в женщинах хоть каплю той подлинности и прочности, которых не хватает самому, поскольку они вас бегут, ибо вы — ходячая ложь. Чего искали вы столько лет на дорогах Европы? Что именно ускользало прямо из-под ваших ног? Вы всегда любили только себя и свою тень. Ваша жизнь вроде сказки, которую вы рассказываете себе, будто вы ребенок, но позвольте спросить: сами-то вы в нее верите?
Джакомо почел за лучшее встать и поклониться, после чего поцеловал руку г-жи де Фонколомб. Его порыв выглядел весьма куртуазно. Пожилая дама одна могла оценить этот поцелуй, предназначенный Генриетте. Она улыбнулась ему, оставшемуся в памяти прекрасным и нежным двадцатичетырехлетним любовником. Когда он сел на свое место, она обратилась к нему с такими словами:
— Мне ли не знать, что вы способны на самое большое чувство, дорогой господин де Сейнгальт. Удивительно, что Полина этого не чувствует, ведь источник вашего обаяния кроется в вашем внутреннем огне, в вашей жовиальности. Чтобы не ощутить этого, женщина должна быть начисто лишена души.
Не в силах остаться безучастной к провокационным словам в ее адрес, Полина, едва сдерживаясь от гнева, бросила:
— Вся сила обаяния господина Казановы кроется, как мне кажется, в его репутации, а репутация эта подобна славе памятников, доставшихся нам от античных времен, таких, как римский Колизей. И потому господин Казанова — не живой человек, которого можно любить, а знаменитое место, которое можно посетить и осмотреть.
— Ваша досада вводит вас в заблуждение, — парировала г-жа де Фонколомб. — Доказывая нам, что наш дорогой друг для вас ничто, вам надобно проявлять меньше огня, иначе мы вам не поверим. Высказываясь столь красноречиво, вы добьетесь лишь того, что шевалье сможет похваляться: она-де ко мне неравнодушна. И прекратите наконец это неправедное и никому не нужное судилище!
— Прошу прощения, сударыня. И вы тоже, сударь. Никакого судилища и быть не может, потому как к нему нет причины, и я допускаю, что говорила ради одного праздного удовольствия нанести нашему другу оскорбление, не найдя лучшей темы для разговора.
Новая словесная выходка окончательно рассердила ее хозяйку.
— Лучше сознайтесь, что господин де Сейнгальт не смог польстить вам так, как вы того требовали. Но об этом не могло быть и толка. Вы пожелали возбудить его ревность, чуть ли не отдавшись на его глазах капитану де Дроги! Куда как прекрасно! Так терпите, что он отплатил вам той же монетой, да еще с процентами, отдав и вашего кумира на час, и себя самого в объятия волшебнице! Но это не самое главное, есть нечто такое, чего вы просто не в силах пережить, а именно того, что мужчина, который вам интересен и которому не очень интересны вы, скомпрометировал себя с дочерью садовника. Вот что для вас непереносимо, не так ли? Подобный поступок уж ни за что не найдет оправдания в глазах подруги народа!