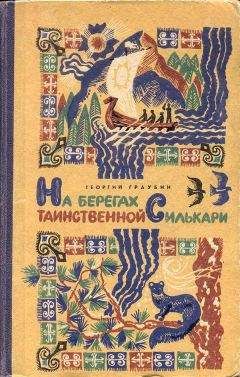Джойс Кэри - Из первых рук
Все лондонские пророки имеют ревностных последователей в районе Гринбэнк: Беньян, Уэсли{12}, Ричард Оуэн, Прудон, Герберт Спенсер, У.Г. Грейс{13}, У. Ю. Гладстон, Маркс и Рескин. Последнее два немного слишком революционны и привлекают главным образом молокососов вроде Носатика. Юнцы с Эллам-Стрит зачитываются Рескином и набираются идеек; насчет Красоты, от которых одни неприятности, пока девушки не приберут их к рукам, не женят на себе и не превратят в почтенных буржедуев-буржежуев. На Эллам-стрит жены ненавидят искусство сильней, чем политику, а политику сильней, чем других-женщин. Но проповедники, будучи семьеустойчивы и женонепроницаемы, часто продолжают верить в Правду, Красоту и Добродетель до конца своих дней. Планти свято верил в эту троицу, и если ему удавалось уговорить кого-нибудь, особенно собрата-проповедника, поглядеть на мои картины, приводил его ко мне. Во исполнение долга перед искусством, перед Богом и перед английской нацией.
Одна беда — хотя все добропорядочные проповедники вокруг Гринбэнк, включая анархистов и богоборствующих обитателей Блэкбойз-ярд, любят Красоту, они терпеть не могут картин, настоящих картин. Каждая новая моя картина приводит Планти в содрогание; это, естественно, вызывает у него восторг, а меня повергает в уныние. Я не люблю, когда люди хвалят мои картины, если они им не нравятся. Поэтому, когда Планти начал громко кричать двум другим проповедникам: «Вы Только посмотрите, как это прекрасно, — не правда ли? Ах, мистер Джим-сон, эти рыбы — просто чудо... Изумительная работа. Их прямо съесть хочется»,— я почувствовал, как из желудка у меня поднимается мрак и застилает мне глаза.
— У мистера Джимсона есть картина в Национальной галерее, — сказал Планти; он, не жалея глотки, расхваливал свой товар во славу Господа Бога и искусства. — Раньше он рисовал на мирские сюжеты, но теперь предпочитает библейские. — Это Планти пытается пощекотать их перьями из их собственных крыльев.
Сизоносый проповедник, уставившийся на Еву, как бык на, пикник, громко фыркнул, и Планти, увидев, что этой картине суждено снискать еще меньшую популярность среди местных любителей искусства, чем предыдущей, сделал героическое усилие:
— На этой картине нарисовано грехопадение. Слева Адам. Он не совсем закончен пониже спины. Ева — справа от него — стоит на коленях. Змий — налево — шепчет что-то Адаму на ухо. Цветы сбоку — маргаритки, и ноготки. Мистер Джимсон, я, право, должен поздравить вас с этими цветами. — Обращаясь к ищейке: — Не правда ли, маргаритки подходят для рая, мистер Сукинсон (или Кобельсон, или как его)?
Но чем больше он старался, тем хуже я себя чувствовал. Как червячок-светлячок, который радостно ползет по лугу, и каждая травинка кажется ему могучим дубом, и каждый камешек — покоренной вершиной, а огонек довольства собою на собственном хвосте — божественным светом, озаряющим ему путь; и вдруг на луг с громким топотом врывается стадо быков, извергая из ноздрей тропики и роняя лепешки континентов, а за ними миллион волосатых горилл, огромных, как небоскребы; гориллы лупят себя по груди барабанными палочками величиной со слона и вопят: «Мяса! Самок!», а за ними скромно следуют десять тысяч моржей, каждый высотой в тысячу футов; обувью им служат крейсеры, гульфиками — купола собора Святого Павла, в руках у них щиты-библии, утыканные медными шипами, и дубинки-кресты из кроваво-ржавого железа, увешанные кровоточащими головами младенцев, художников и им подобных; они вытаптывают остатки травы и кричат: «Поди сюда, к своей мамочке, червячок, она погладит тебя по головочке и причешет твои волосики!»
Здесь ищейка разинула пасть и пролаяла:
— Весьма интересно, мистер... э-э... мистер Джонсон. Я, конечно, ничего не понимаю в искусстве, но, надеюсь, вы мне объясните, могут ли человеческие члены — я говорю с точки зрения анатомии — принять то положение, какое они имеют у мужской фигуры. Конечно, я знаю, некоторое нарушение пропорций... э-э... вполне допустимо.
Я сделал вид, будто заметил пятнышко на Евином носу, и принялся стирать его пальцем. Я не мог выдавить из себя ни слова. Мне было очень неловко. Бедняга делал все, что в его силах, а я притворялся, будто глух как пень. Брось, сказал я себе. Скажи что-нибудь, что угодно. Что-нибудь понятное им. Ничего больше не нужно. Что-нибудь о погоде. Чтобы пробить дырку в этом ужасном молчании и немного разрядить атмосферу. Брось, сказал я, разве ты из тех ослов, которые принимают себя всерьез? Ты же не будешь взывать, как бедный Билли:
Я был в стране Мужей и Жен,
И долго странствовал я там.
Тех ужасов, что я познал,
Вовек не знать земли сынам.
Означает это, возможно, одно: когда Билли приходила в голову хорошая мысль, мысль-красотка, подсказка самого Господа Бога, к нему являлся какой-нибудь сизоносый и спрашивал, почему он рисует женские фигуры в ночных рубашках.
И, сделав над собой мужественное усилие, я открыл рот, улыбнулся до ушей обольстительной улыбкой и только собрался изречь, что похолодало, но, в общем, дождя скорее всего не будет, хотя, кто знает, как Сизоносый фыркнул еще раз и сказал:
—Я вижу, что среди современных художников вошло в моду рисовать женщин с несоразмерно большими ногами и руками. Я не имею в виду, что существует культ уродства... мне просто хотелось бы получить информацию.
К счастью, я заметил, что ноготь на большом пальце ноги Адама чуть размазался. Я подмешал немного белил к жженой сиене и подправил его. А старый Билли кричал:
Уносит, коль родился сын...
(То есть свершилось подлинное воплощение мечты.)
Старуха мальчика с собой.
Распяв на камне, крик и стон
В сосуд сбирает золотой.
А означало это, что какой-нибудь старый Сизонос в юбке распинает плод вашего воображения на камне правил, всяких «отчего» да «почему» и подвергает его логическому анализу.
Покончив с большим пальцем Адама, я подправил ему некоторые другие детали, и ищейка вдруг пролаяла:
—Весьма интересно, гав-гав. Но боюсь, гав-гав, мы уже опаздываем. Нас, кажется, ждут в половине шестого, мистер Шишнос (или Фигнос, или что-то в этом роде).
И они вдруг испарились, не потеряв при этом своего достоинства, — первое, чему научается Даниил, угодив в львиный ров.
Старый Планти задержался, чтобы сделать очередной взнос в общество Блейка, вернее, часть его — шиллинг и шесть пенсов наличными, и пообещал, что скоро вернется.
—Ваша картина произвела очень большое впечатление на этих джентльменов, а они состоят во множестве разных комитетов. И очень влиятельны. — И он поспешил вслед за ними на молитвенное собрание.
А я взял мастихин и спросил себя, что мне сделать — соскоблить краску с холста, убить сукина сына или просто перерезать себе глотку.
И тут я заметил Носатика, который притаился в уголке и глядел на картину такими же круглыми, как у рыб, глазами.
—Как ты сюда попал? — сказал я.
—Дверь была открыта.
—Так закрой ее... с той стороны. Кыш!
—Но сегодня суббота...
Универсальное оправдание всех мальчишек. Сегодня суббота. Они разбивают вам стекло. Сегодня суббота. Они разбивают вам сердце. Сегодня суббота. Они разбивают себе голову и вводят вас в похоронные издержки. Сегодня суббота.
—Мне все едино — суббота, понедельник, — возмущенно сказал я. — Какое ты имеешь право врываться сюда?
Носатик подумал с минуту, затем сказал:
—Кто эти люди, которым не понравилась ваша картина?
—Проповедники.
—Мне хотелось дать им пинка.
Дурно было бы поощрять мальчишку, и я промолчал, затем сказал холодно и веско:
—Не смей так говорить о моих друзьях.
—Ваших друзьях?
—Они пришли сюда из любви к искусству, не забывай этого.
—Но им не понравилась ваша картина.
—Конечно, нет. Вполне естественно. У них нет на это времени. У проповедников нет времени любить что-нибудь или знать что-нибудь, и у тебя бы не было, если бы тебя укусила за ляжку бешеная собака.
—Но этот тип с сизым носом, Томпсон, совсем не бешеный. Он женился на вдове бакалейщика с деньгами.
—Как он может быть не бешеным? Что такое проповедник? Художник. Который гремит погремушкой, набитой словами, у собственного уха, чтобы не плакали детки. А детки ревут: «Буу-буу, помоги нам Бог». Вот Бог и ниспосылает свору бешеных псов, чтобы те покусали их. Ты должен сочувствовать Сизому Носу, — сказал я, принимаясь соскабливать рыб. — Подумай о его муках, когда вдова бакалейщика просыпается ночью, чтобы получить от него хоть маленькое утешение за то, что живет на свете, а он слышит, как бешеные псы Хором рычат у помойки: «Р-р-прр-роповедь, пр-р-роповедь». — «В чем дело, милый?» — спрашивает жена бакалейщика, начиная терять терпение. «Я думаю о следующей воскресной проповеди. Жалко упускать такую возможность». — «Но твоя проповедь совсем готова». — «О да, — говорит Сизоносый, — а все-таки, может быть». — «Ты сам знаешь, что это прекрасная проповедь. Не вздумай там что-нибудь менять. Ты ее только испортишь». Сизоносый молчит. Он не знает, прекрасная это проповедь или чепуха, сотрясение воздухов, бред пустого, как Британский музей, ума, где мысли его, спотыкаясь как пьяные, еле нащупывают свой путь в темноте. А бешеные псы по-прежнему поют свою песню: «Пр-р-роповедь. Еще лучшую пр-р-роповедь». И Сизоносый по-прежнему пытается схватить хоть одного из них за хвост, но они всякий раз выскакивают у него из-под рук. И когда он нечаянно вздыхает на вдове бакалейщика, она разражается слезами и говорит, что он уже больше не любит ее так, как любил на прошлой неделе.