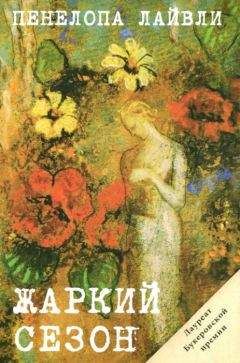Имре Кертес - Самоликвидация
Но вопрос о том, не является ли прощальное письмо фикцией, которая лишь имитирует постепенное угасание сознания, умирание, просто теряет всякое значение рядом с другим вопросом: если речь не идет о какой-то реминисценции Кальдерона, то почему Б. благодарит Шару за сон? Точнее, почему он благодарит Шару? Если верить тексту, в этот момент он, как говорится, уже находится в объятиях Морфея, и две женщины плывут вместе с ним по черной реке; вторую, вне всяких сомнений, зовут Юдит…
А может, за сон он благодарит не Шару, а Юдит? По спине у меня побежали мурашки… Мне вспомнилось, что время от времени Б. навещал Юдит в ее поликлинике и просил у нее лекарства: об этом мне говорил еще сам Б. И вдруг для меня стало абсолютно очевидно, что исчезнувший роман как-то должен быть связан с Юдит. Но — как?
До сих пор это были лишь мысли, холодные мысли. А сейчас я вдруг ясно понял, что должен поговорить с Юдит. Должен ей позвонить. Должен встретиться с ней. Но, потянувшись к телефону, я почувствовал, что руки, ноги мои отказываются мне подчиняться.
Юдит я не видел лет пять. Вернее, последний раз все же видел — на похоронах. Она опоздала немного — и встала чуть поодаль от нас, от бывших ее друзей. Она держала за руки двух детишек, мальчика и девочку, и ушла с ними еще до завершения церемонии. Я старался забыть ее, но безуспешно. Она чуть-чуть пополнела по сравнению с прежними временами. Выглядела уверенной в себе и неприступной. Целых два дня после похорон меня неудержимо тянуло мастурбировать. Это была словно злая и унизительная метафизическая кара за те несколько месяцев, когда я находился в любовной связи с женой моего кумира и лучшего друга.
Не хочу говорить об этой связи. Да и не могу. Трудно сказать, что это, собственно, было, какое название тут подошло бы. Сексуальная тяга? Да, несомненно; но смешанная — по крайней мере, у меня — со страхом, отвращением, ненавистью к себе самому и в то же время с необъяснимым наслаждением. Я узнал все бесстыдные тайны Юдит, в то время как сама она становилась для меня все большей тайной. В конечном счете я стал бояться ее, как боялся и самого себя.
Я знал, что за это время она вышла замуж, живет в Буде, в прекрасном особняке, муж ее — архитектор. Что она — скажем так — покинула наш круг. Не хочу знать, что я об этом думаю. Позже, когда я почувствовал, что мне придется — ради романа, только ради исчезнувшего романа — прибегнуть к жестким, а то и жестоким средствам, я обратился за помощью к Шаре.
— Чего ты хочешь на самом деле? — спросила Шара. — Отомстить победителям?
Вопрос ее поразил меня; однако еще больше поразил мой собственный ответ. Я хорошо его помню, потому что слышал его как бы со стороны, словно говорил не я, а кто-то другой.
— Нельзя взять и выйти из прошлого так просто, как она это себе представляет. Свежей и ароматной, как из ванны с использованной мыльной водой.
Потом я долго объяснял — и пытался убедить Шару, а может, и себя самого, — что сказал вовсе не то, что сказал. Шара на это ответила, что утрата и скорбь не ожесточили ее; в отличие, видимо, от меня. И добавила, что сейчас чувствует к Юдит не ревность, а скорее что-то вроде (она с трудом подобрала слово)… что-то вроде братской любви. И пояснила, что мне это, видимо, непонятно, да и не может быть понятно, мужчины вообще не очень-то понимают такие вещи, не понимают, что ненавидеть легче, чем любить, и что ненависть — это любовь проигравших.
Я ничего не ответил, и мне самому это было удивительно.
Боюсь, с тем, что последует — или последовало — дальше, я не сумею справиться. Нет во мне для этого свидетельской — да будет позволено мне так выразиться — уверенности некоего вечно недвижного взгляда. Я давно заметил: у писателей, настоящих писателей (и тут я не стану скрывать, что настоящий писатель мне известен лишь один — Б.) этот взгляд беспристрастно и неподкупно отмечает, фиксирует даже самые тяжелые, и в эмоциональном, и в физическом плане, события, в то время как другая, так сказать, повседневная сторона их личности полностью отождествляется с этими событиями, — как это происходит у всех других людей. Возьму даже на себя смелость сказать, что писательский талант — по крайней мере, в значительной мере — и есть, может быть, не что иное, как этот недвижный взгляд, эта отчужденность, которую затем можно заставить заговорить. Всего каких-то полшага, дистанция всего в полшага; сам же я всегда иду вместе с событиями, факты всегда сбивают с толку и погребают меня под собой.
Короче говоря, я позвонил Юдит. Позвонил в поликлинику, где она работала врачом-дерматологом. Говорила она со мной без всякого дружелюбия. Я бы сказал, даже не выслушала меня. А когда я позвонил снова, послала к телефону медсестру. Та сказала: доктор как раз занята с больным. При этом не было сказано, мол, позвоните через некоторое время или что-нибудь в этом роде. Я и не пытался больше звонить в поликлинику. Я позвонил ей домой. Причем в такое время, когда, насколько мне известно, люди садятся ужинать. В трубке звучал приятный мужской голос. Я представился и попросил к телефону «госпожу доктора». Я услышал в трубке: «Юдит! Это тебя, твой больной!» Потом — Юдит. Голос у нее был раздраженный, но в то же время, может быть, чуть испуганный. «Вам срочно? До завтра дело не терпит? Хорошо, позвоните мне завтра в поликлинику!» Я набрался наглости и спросил, когда она принимает. «После обеда. С трех до восьми», — ответила она, как мне показалось, раздосадованно. Помню еще, что я был невероятно доволен. Положив трубку, я, что скрывать, пробормотал вслух: «Ах ты, бестия!»
Но следующие два дня я ее не тревожил. Пускай поварится в собственном соку, думал я; или что-то в таком же духе. И в самом деле, она стала куда уступчивее, чем два дня назад; хотя все же сопротивлялась достаточно. «Что ты, собственно, от меня хочешь?» — «Поговорить», — сказал я. Она ответила, что уже слышала это; о чем я собираюсь говорить? «Узнаешь», — сказал я. «И еще я тебя очень прошу, не звони мне домой, хорошо?» — «Я бы не стал звонить, если бы ты меня не отшила», — ответил я. И предложил встретиться в каком-нибудь эспрессо. Она отказалась. Она все отвергала, что я ни предлагал. «Приходи в поликлинику». Но тут отказался я. О том, где и как мы должны встретиться, у меня было совершенно четкое представление: на террасе кафе на набережной Дуная. Была весна. Я хотел видеть, как она быстрым шагом идет ко мне, одетая в весеннее платье. В конце концов она подошла не с той стороны, откуда я ждал, и слишком быстро, так что я заметил ее, когда она уже стояла у столика.
Что говорить: такие мелкие промахи, такие неловкости тоже нужны. В известном смысле они оправдывают твое бытие, доказывая лишний раз, что ты — человек, которому никогда и ничто не удается.
Прошло несколько неприятных минут, которые можно было заполнить только банальными словами. Помню, на вопрос, заданный Юдит, я с пошлой, фальшивой ухмылкой ответил:
— Просто увидеть тебя захотелось.
— Недавно видел! — сказала она.
— Недавно? Когда?
— На похоронах.
Ужасный диалог. Лишь сейчас, когда я пишу это, мне становится ясно, как он ужасен. Передо мной вдруг встала та картина, на кладбище. Хмурый, сырой, слякотный день. В небе несутся клочья разодранных туч, время от времени припускает холодный дождь. Траурная процессия невелика. Речей над гробом не произносит никто. Суровый, языческий ритуал, без единого слова прощания. Кто этого хотел? Кто отдал такое распоряжение? Интересно бы знать, но я не знаю. Как могло стать, что мы совсем не говорили об этом? О том, чтобы Б. похоронили достойно? Как может быть, что никому из нас и в голову не пришла подобная мысль? Помню, я смотрел на Шару. Она рыдала, беспомощно и покорно; страдание полностью завладело ею, словно болезнь. Склоненная голова Облата, его руки, сцепленные на животе поверх дождевика. Пустой взгляд Кюрти, устремленный куда-то в пространство. Два служителя в черной форме торопливо запихивают урну в черный фургон. У меня возникает беспокойная мысль: а дал ли им кто-нибудь на чай? Меж рядами могил появляется, торопясь, Юдит с двумя малышами. Они останавливаются в отдалении. Я даже не смел смотреть в ту сторону. Фургон трогается. За ним движется траурное шествие. Не знаю, присоединилась ли к нам Юдит. Возле колумбария я ее не видел. (Конечно, это вовсе не значит, что ее там действительно не было…)
К счастью, к нам подошла официантка. Юдит заказывать отказалась.
— Нет смысла, — сказала она. — Поверь, никакого смысла нет в этом. — Она была напряжена: вот-вот встанет и уйдет. Но она не встала. Официантка молча стояла возле нас. Я предложил Юдит кофе. Она пожала плечами. Я вдруг поймал себя на том, что осыпаю ее дурацкими упреками.
— Конечно, ты очень заботилась, чтобы никто не нарушил твою одинокую скорбь. Стояла там, отдельно от всех, в черном костюме, одной рукой держала девочку, другой — мальчика…