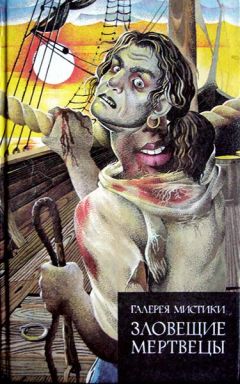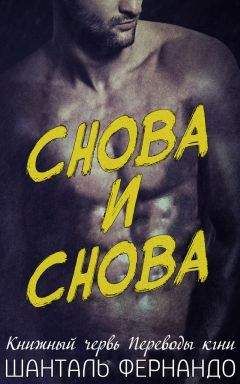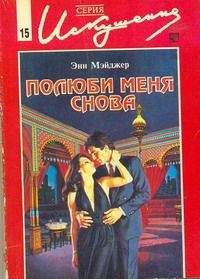Андрей Коровин - Ветер в оранжерее
Однажды, когда я, перечтя по какой-то надобности “Записки из мёртвого дома”, сразу же после этого взялся за Тургенева, я был поражён пустотой грамотной и довольно красивой тургеневской фразы. После того напряжения, которое, казалось мне, присутствовало в каждом слове Достоевского, читая Тургенева, я словно бы ехал на велосипеде с соскочившей цепью — крутил педали, двигаясь лишь по инерции качения и совершенно не чувствуя при этом под ногами никакой упругости и сопротивления передаточного силового механизма.
Поделившись этим открытием с отцом, я услышал от него следующее.
— А ты случайно не замечал, — сказал он мне, откидываясь на спинку стула и затягиваясь какой-то дешёвой сигаретой, — что при чтении Достоевского возникает такое чувство, как будто не только ты давишь на педали, но и на тебя кто-то давит сверху, как на такую же педаль?
Я честно задумался, прежде чем ответить на подобный, немного неожиданный вопрос. Я думал, отец курил, смотрел на меня своими жёлтыми глазами, и я чувствовал себя прозрачным.
— Я думаю, — сказал я, взглянув вверх, как бы туда, откуда на меня могли давить как на педаль, и увидев там круглый мутно-белый плафон лампы, на дне которого чернел толстый слой погибших внутри насекомых, — я думаю, что это как на тренировке. Даже, если тебя и давят, то потом ты становишься сильней и чувствуешь себя очень лёгким. Что в этом плохого?
— В тренировках, наверное, ничего, если не переусердствовать… А я вот думаю, если хочешь придавить человека к земле, дай ему Достоевского — и пусть читает каждый день. Поэтому Достоевский — писатель для подростков. Потому что подростки, во-первых, не только нервные и немножко нравственно болезненные, как и Достоевский, но, во-вторых, ещё и существа гибкие, и в состоянии выпрямиться после того, как их придавят. А придави Достоевским взрослого, он потеряет все радости жизни.
Я пытался серьёзно спорить, но отец перебил меня с непонятной полуулыбкой:
— Да он и пишет плохо. И вообще, Достоевский — сплетник, а это не есть хорошо.
…О Хемингуэе, которого отец, по всей видимости, всё-таки любил и называл его дядей Хэмом, он (будучи в тот раз пьяным) сказал, что, к сожалению, “дядя Хэм часто бывает сентиментальным”.
— Это от алкоголизма, — сказал он. — Да и мужество у него чаще всего какое-то алкогольное… Но это не так страшно. Сентиментальность хуже, гораздо хуже… Сентиментальность — это слёзы, которые человек проливает по утерянной им способности чувствовать.
14
Подобные разговоры привлекали меня не встречавшимся мне прежде в людях несколько эстетским цинизмом и ядовитой искренностью, а также самостоятельной, хотя иногда и путаной, даже несколько как бы взъерошенной, критической мыслью. Я много читал и отлично учился, но окружение моё в Киеве составляли напыщенные знакомые мамы и мои друзья — хулиганы, меломаны и наркоманы. Поэтому всё это было для меня новым, и, как ни странно, в какой-то мере удовлетворяло ту безотчётную жажду трёхмерности, которую всегда будил во мне дядя Саша.
Именно с отцом я впервые по-настоящему почувствовал, хотя, казалось бы, и знал об этом всё время, что Лев Толстой, к примеру, был артиллерийским офицером. Из пустого известного мне факта биографии появился вдруг человек в пыльной форме, зажимающий руками уши при ослепляющем громе пушечного выстрела.
Способность к чистому (а не предписанному учебниками) сопереживанию постепенно развивалась во мне, и, когда отец однажды по какому-то случаю назвал Пушкина “оболтусом”, я испытал ощущение свободы и упоительного удовольствия, сравнимого с тем, которое я переживал, отхлёбывая по утрам из горлышка портвейн и отрываясь и уходя при этом куда-то в сторону и вверх от обременённого своими нескончаемыми заботами советского народа.
Надо сказать, что тема алкоголя, алкоголизма, беспокоила отца, он часто говорил об этом.
Помню, как он, держа книгу в своих крупных, вздрагивающих руках, зачитывал мне в доказательство чего-то то место из “Братьев Карамазовых”, где говорилось, что с Фёдором Павловичем, несмотря на всю его развращённость, низость и сладострастие, после пьяных оргий “…бывали высшие случаи, и даже очень тонкие и сложные, когда Фёдор Павлович и сам бы не в состоянии, пожалуй, был определить ту необычайную потребность в верном и близком человеке… Это были почти болезненные случаи…”.
— Какая наивность, — тихо говорил отец. — Какие же это “высшие случаи”? Это обычное, заурядное похмелье…
Он любил Высоцкого, и смерть последнего подействовала на отца, как смерть близкого человека (они были почти ровесниками, и отец пережил его всего лишь на год с небольшим), однако с неколебимой непримиримостью отец продолжал повторять, что “Высоцкий слабак, даже ещё больший слабак, чем дядя Хэм”.
— В нём, — говорил он, — жила неутолённая жажда силы и мужества, которые в трезвом состоянии были ему недоступны, но жажда эта была такой силы и такого надрыва, что воспринималась всеми не как жажда силы и мужества, а как сама сила и само мужество. А он на самом деле был слабак… В какой-нибудь Пугачёвой крепости и жизненной силы неизмеримо больше…
В этом смысле, в смысле внимания, непрямого и осторожного и вместе с тем неотвязного, которое отец уделял теме алкоголя и всему почти, что было с этой темой связано, показателен написанный отцом “Рассказ о задницах”, который будет приведён через несколько страниц. А пока что, как я и обещал — о прозрачности и о героях, которые не пишут книг.
15
Я уже говорил, что общаясь с отцом, всегда испытывал странное ощущение собственной прозрачности. С неубывающей настойчивостью я стремился пережить это ощущение снова и снова, хотя иногда оно было не очень приятным, но притягательная сила его заключалась, по-видимому, не только в приятности.
Отец неизменно угадывал моё внутреннее состояние, случалось даже прежде, чем я начинал говорить. И над тем, что казалось мне сокровенным и необыкновенно важным, в особенности же, если я напускал на себя излишней серьёзности, он подшучивал, хотя и (за исключением двух-трёх резких выпадов, которые он позволил себе) довольно осторожно, но едко и точно. Шутки его не всегда мне нравились. Иногда они казались чересчур легкомысленными и даже кощунственными, но это быстро проходило. Оставалось же ощущение как бы внутренней умытости.
Несмотря на декларируемое мною презрение ко всякого рода лжи, я, конечно же, лгал, и более всего (как и все люди) — себе самому. В институте и в общежитии, с друзьями, девчонками и преподавателями я мог довольно долгое время словно не замечать подобной лжи или, скажем, излишнего пафоса какой-либо новой своей идеи, и смело излагать (со всей склонностью к преувеличениям, унаследованной мною от матери) эти, казавшиеся мне достойными и серьёзными, мысли — до тех пор, пока не встречался с отцом.
Отец не щадил моего пафоса, и, поначалу всем сердцем протестуя против насмешек над вещами важными и серьёзными, я позже распробовал это необыкновенное ощущение прозрачности, возникавшее в его присутствии, и оно мне стало нравиться. Будучи прозрачным, я отчётливо различал свою внутреннюю фальшь и тёмные пятна прилипающей ко мне глупости, у которой часто была глубокомысленная складка на лбу. Очень тонким и узким (и доставлявшим странное удовольствие), похожим на высокий звук скрипки, был момент, разделявший то мгновение, когда отец различал во мне фальшивую нотку пафоса, и следующее за ним мгновение, в которое я осознавал, что чувствовал её присутствие секундой раньше, чем отец успевал что-либо сказать.
Со временем я распробовал это замечательное прозрачное чувство, и мне уже было достаточно одного молчаливого присутствия отца и взгляда его жёлтых глаз со странным смеющимся выражением, чтобы, не успев даже начать говорить, полупонять и полупочувствовать процент фальши, заключавшийся в моей излишней серьёзности, тот процент, который, как вода сквозь сито, проходил через уши моих сверстников и большинства тех людей, что меня окружали.
Однако, несмотря на такую способность как бы просвечивать меня и действовать на меня очищающе, отец, надавав мне мягких, но увесистых оплеух, подобных тем, которые отвешивает своим детёнышам львица, никогда не шёл дальше. Он уклонялся. Казалось, что то, что должно было случиться со мной в жизни — совершенно не интересует его.
Собственная его жизнь так же не менялась, она оставалась жизнью как бы оседлого бродяги (если такие бывают), и это я отказывался понимать.
Поэтому уходил я от отца чаще всего всё-таки раздосадованным и даже раздражённым, в особенности если он увязывался провожать меня. Выйдя на улицу и шагая торопливым своим шагом к станции метро, он превращался в полную противоположность того ироничного Будды, который встречал меня за два-три часа до этого. Он суетился, оглядывался на прохожих, особенно на женщин, подчёркнуто здоровался со всеми попадавшимися навстречу знакомыми, чтобы показать мне, что у него есть знакомые, а знакомым, что у него есть такой красавец-сын, и давал мне невероятное количество разнообразных практических советов, которые раздражали меня ещё и тем, что ни один из них не был приложим к действительности.