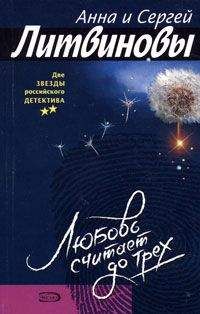Галина Щербакова - Мандариновый год
– Да Господь с тобой! – ответила Анна. И не солгала.
То, что у него с этой корректоршей, идет по другому ведомству. Его заарканили. Отличие женщин от мужчин, может, даже главное отличие, в том и состоит, что они арканятся с превеликим удовольствием. Эта женщина и сопротивляется, и комплексует, и убегает рысью, прытью, галопом, эти же идут прямо, на первое «Куть! Куть! Куть!»
Вот его позвали, он и пошел. И если бы у нас было принято, как в Европе, иметь параллельные связи и ей, и ему, то ничего бы не было вообще. Но мы же Россия! У нас всегда все остро, будь то общественная жизнь, будь личная. Все на пределе, все на нерве.
Анна пожалела – немного правда, ведь и ее бы это коснулось – о том времени, когда за такие вещи запросто могли выгнать из партии. Это, конечно, крайность, но что-то в ней было. Какая-то узда для безвольных и бесхарактерных, как Алексей. Теперь все не так. Она это поняла, когда сходила в райком: инструкторша ее возненавидела именно за то, что она пришла по такому поводу. Европейский стиль работы! Ну и пожалуйста! Она сама все сделает. И в первую очередь она покроет клеенкой – видела красивую такую в желто-синих квадратах, а каждый квадрат в коричневой двойной рампе, – так вот она оклеет такой клеенкой в кухне пол.
Пусть он видит, что она не собирается двигаться с места. И палас большой закажет на дощатые полы, той самой родительнице. И чем лучше у них будет в квартире, тем труднее ему будет уйти. Он ведь прав. Он прирос к стенам. Интересно, а если бы это случилось, когда они жили в той, двухкомнатной квартире? Держался бы он за нее мертво? Но было странно вообразить себе, что такое могло быть там.
Во-первых, свекровь. У, какая у нее была свекровь! Из первых комсомолок. Она бы не чикалась, она бы все поставила на свои места сразу. Мысль же – хорошо бы, мол, оказаться сейчас в той двухкомнатной квартире, но без всех ее нынешних проблем – в мозгу почему-то не задержалась. И Анна заметила это и несколько удивилась, но тут же, разобравшись в этом странном на первый взгляд феномене, сделала вывод: Алексеева история преходяща, как бы она ни кончилась, а хорошая квартира вечна. Ну не вообще, конечно, вечна, а для одной хотя бы человеческой жизни. Хорошо, когда стены стоят, высокие, кирпичные, три двадцать высотой.
Уже когда подходила к школе, пронзительная, острая мысль пришла вдруг неожиданно: а если он все-таки уйдет? Она же сама ему все время долдонит: уходи, уходи! Надо будет с этим «уходи» поосторожнее.
А Вика нашла деньги. Лежа ночью без сна, она все вспоминала эту торопливость, с какой Алексей убежал, когда она предложила ему остаться. Ведь она же сейчас рискует большим: во-первых, о женщине всегда хуже говорят, во-вторых, срок кандидатский у нее кончается, мало ли какой фортель выбросит его корова? А он убежал… Когда у них все начиналось, она не думала ни о чем серьезном, так, связь, и все. Она после Федорова во все эти дела бросалась как в омут. А потом он таксе встретил в доме отдыха, ошалелый какой-то. Бормотал, что жить без нее не может, про какие-то «бурые самолеты» рассказывал и спрашивал: «Ну как я мог без тебя, как?»
Вот тогда у нее стали развязываться узлом завязанные после Федорова нервы. Она лежала на песке, плыла в море, стояла под душем, грызла яблоко, делала маникюр, пила вино и все говорила, говорила, говорила Федорову одни и те же слова: «Видишь? Видишь? Видишь, как я нужна… А ты думал ты один; взял и ушел? Ты посмотри на него, посмотри, красивый мужик, не то что ты… Нос шляпочкой…»
Он ее вылечил, Алексей. Спас от чувства неполноценности. И она тогда сказала себе: «Я сделаю для него все, чего он захочет».
Он захотел многого: «Выходи замуж». Это «многое» у нее было, и никто на это многое не покушался. Все ее разовые поклонники приходили, чирикали: «А у тебя, Витуся, клево! Молодец Федоров! Это его дизайн?» Алексей же стеснялся этого чертового дизайна, он не мог в нем долго находиться, не мог в нем жить, поэтому убегает от нее вечерами, не остается. И как бы не было ей горько, а ценит она в нем эту неспособность расположиться в чужом, как в своем. По нынешним временам это уже нечто рудиментарное, такая совестливость. Придя к мысли, что спасение их, как ни крути, а в деньгах на машину, она стала перебирать, к кому можно еще обратиться, и как не гнала она от себя вариант под названием «тетка», а пришлось-таки на нем остановиться.
***…Старая семейная вражда разделила сестер во времени на двадцать лет. Матери Вики было тогда двадцать три, а тетке двадцать восемь, и был это сорок второй год. Должна была родиться Вика, а тетка строго судила за это сестру. Нашла время и час! И хоть бы некому было сделать аборт – было кому! В лучшей по тем временам клинике сделали бы будь здоров, с анестезией. Тетка говорила – так пересказывала Вике мать уже потом: «Как можно награждать – чувствуешь, какое слово? – воюющее государство лишним ртом?»
Мать молодец, сама родила и вырастила, отец в этом же сорок втором погиб, а сестре мать сказала: «Умирать буду голодной смертью – в дом твой не постучу». Мать умерла, когда Вике было двадцать один год и перед ней, испуганной и несчастной, набежавшая откуда-то родня поставила вопрос: «Неужели же не позовешь родную сестру покойницы?» – «Да зовите кого хотите», – закричала Вика. Но кто-то из старших взял ее за плечи, подвел к телефону и сказал: «Звони. Сама звони. Так по-людски». Тетка завопила с порога и рыдала настоящими слезами: такого количества слез Вика ни до, ни после не видела. Дважды возле гроба она теряла сознание и возле ее носа размахивали ваткой, смоченной в
нашатыре. Ее еле-еле довели до кладбища, боялись, что умрет.
И эта удивительная, ни на что не похожая скорбь так потрясла Вику, что ей стало казаться: она-то не так любила мать, как сестра, потому что нет у нее ни слез, ни обмороков, и в могилу она не свалилась, а тетку едва удержали. Теткин муж, громадный седой генерал, почти на руках отнес ее в машину и увез.
На скромных поминках только и разговору было о генерале, машине, о том, как он ее нес, а она ничего себе женщина, килограммов восемьдесят – не меньше.
А потом был выход в генеральский дом. Вика, дитя московской коммуналки, вошла в квартиру, где прямо пахло чем-то необыкновенным. Потом она разобралась чем: генерал курил трубку, трубочный табак ему привозили откуда-то из-за границы, оттуда же «для отдушивания атмосферы» тетке передавали какие-то пакетики, которые она всюду рассовывала.
Вике дали на ноги необыкновенно вышитые тапочки, и она пошла по иноземному ковру, стесняясь заглядывать в комнаты слева и справа, мимо которых проходила, хотя ей очень этого хотелось. Ее привели в самую дальнюю, теткину комнату, и туда, будто из стен, просочились какие-то женщины с широкими некрасивыми пористыми лицами, но с таким покоем в глазах, что Вика даже растерялась. Такие глаза она видела только на картинах старых художников или иконах, а тут же обыкновенные советские женщины. Откуда ж такие глаза? Все они были в каких-то шелковых капотах, все двигались бесшумно, говорили тихо, и Вика не удержалась, подошла к окну. На улице был шестьдесят третий год, ехали машины, у троллейбуса сорвался привод, из двери магазина торчала очередь, а прямо напротив окон висел портрет Валентины Терешковой, и глаза у нее были нормальные, живые и уставшие.
Вика повернулась к женщинам – и будто пропала улица с портретом и очередью.
Женщины в капотах были сестры генерала, и, наверное, они были вполне хорошими, но была в них какая-то ирреальность, неправдоподобность. А тут еще раздался какой-то стук, оказалось, это гонг к обеду. И они тронулись по коридору, шелестя капотами и завернули в одну из комнат, в которую Вика стеснялась заглянуть.
К столу вышел генерал в расстегнутом кителе. Он пожал Вике руку и сел на главное место. Женщина в фартуке подавала обед, и все ели тихо, только слышались генеральские глотки. А за чаем уже говорили. Тетка сказала мужу, что Вика молодец. Дважды не поступила в университет на очное, а теперь работает в корректорской и учится заочно. Генерал кивком головы одобрил такие поступки Вики. Тетка сказала, что учится Вика на редакторском отделении, и в этом месте сделала паузу. Вика решила, что эту паузу должна заполнить она, и уже было открыла рот, но все пористые женщины повернули к ней свои святые глаза, и она поняла: ей ничего говорить не положено.
– Ну что ж, – сказал генерал, – будем иметь своего редактора.
Видимо, именно для такого вывода и была предоставлена пауза, потому что тетка вся засветилась и сказала самое важное и самое главное:
– Иван Петрович пишет мемуары.
– Дадите почитать? – ляпнула Вика.
И женщины покрыли ее таким взором, что она едва выкарабкалась наружу. Тут-то она и поняла, что нельзя за здорово живешь просить генералов почитать их мемуары. Но генерал на нее не рассердился, наоборот, засмеялся и сказал, что вряд ли юной девушке так уж придутся по сердцу военные истории, ей другие истории нужны…