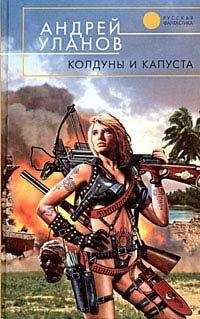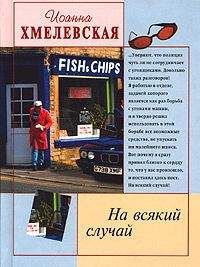Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием
Так возникает отталкивание от «внешней суеты» Запада и ностальгическая тяга к «внутренней духовной глубинке» России. «Внешней суеты» (кроме, пожалуй, очередей) в советской России, действительно, не найдешь, как нету ее там в самой примитивнейшей из форм — уличной жизни. Уличная география в российском романе изобилует провалами в буквальном и переносном смысле. Описания улиц крайне редки и сводятся к описанию спешащих трудящихся — мрачно спешащих в литературе неофициальной и спешащих с энтузиазмом в литературе партийной. Даже дореволюционный «Невский проспект» Н.В. Гоголя — не улица, а сплошной символ. В русских романах люди встречаются не на улице, а в климатической пустоте — мороза, оттепели, летнего зноя или ядреной осени; встречаются, чтобы разговориться о космических проблемах русской интеллигенции, на что и где купить бутылку, и быстро прискакать в еще один дом, салон, квартиру — тут-то и начинается описание быта, лиц, мебели, картин. Между этими пересадочными станциями — пустые провалы города, черные дыры бытия.
У самого города нет карты — он существует лишь в виде отдельных районов и домов, где мы удовлетворяем среди знакомых свои страстишки. Точные уличные карты советских городов, заметьте, практически недоступны обыкновенным гражданам. Когда вам нужно попасть к кому-нибудь в гости, хозяин долго и подробно объясняет по телефону, куда и когда нужно поворачивать на пути от метро; приметы составлены из «продмага», «телефонной будки», «аптеки», «фонаря» — словарь скудный, потому что безымянный. Представления о городе в целом есть у редкого москвича. Я никогда толком не знал, где находится Марьина Роща, где я родился: на севере Москвы, на востоке? Во всяком случае, не на юго-западе, потому что Юго-Запад — это не направление, а еще один московский район со своими старыми друзьями и соседями, соединенный с Марьиной Рощей у меня в голове лишь маршрутами троллейбусов и метро; в целом же все эти отдельные районы не что иное, как место жительства того или иного приятеля, и в единую географию города не складываются. В эмиграции география еще более искажается, потому что становится предметом сугубо личного — идеологического — самоотождествления. Скажем, попав однажды на край Синайской пустыни, я не мог поверить, что вижу на другом берегу залива Красного моря Саудовскую Аравию: ведь я находился в тот момент на территории Израиля, то есть в стране эмигрантов из России, то есть продолжал мыслить разговорами об отъезде, приезде, возвращении или надежде на встречу. Все эти разговоры исключали какое-либо соседство с Саудовской Аравией или Египтом: Египет был из другой географии, африканской — то есть относился к разговорам на совсем другую экзотическую тему, вроде, например, сказок Шехерезады, но никак не Политбюро. Эмигрантская география идеологизирована, как политизирована география советская — по странам капитализма и социализма. Точно так же как на арабском атласе мира отсутствует государство Израиль, так в голове у эмигранта не существует тех географических пунктов, куда он не попадает по своему эмигрантскому статусу и где нет и не может быть его друзей и знакомых. Земной шар распадается на мафиозные штаб-квартиры, эмигрантские «малины», между которыми пропасти и подземные ходы в мыслях и разговорах не менее запутанные, чем подземелья во дворцах узурпаторов из готических романов.
Есть тут и комната Синей Бороды — на Лубянке: кто-то в ней был, а те, кто не был, знают о ней массу страшных легенд и зловещих анекдотов. Туда страшно тянет, дверь хочется распахнуть, раскрыть жуткую тайну, смысл которой давно потерян даже для тех, кто уверен, что и разгадывать было нечего. Там есть крупнейшая в мире библиотека запрещенных рукописей — коллекция исповедей, голоса замученных, закованных в железных сейфах скелетов памяти. От этой комнаты — пыточной камеры — исходит эманация, искажающая не только совесть, но и географию изгнания. Так возникают споры о том, похож ли Лондон на Ленинград и где больше Москвы — в Париже или Нью-Йорке? Эмигрант оказывается в двоящейся, двоякой географии, с маршрутами, обрывающимися в провалах памяти о другой стране. И пробираясь мыслительными подземными ходами через мавзолейные склепы по незнакомым площадям, он вдруг вплывает в знакомую комнату эмигранта-приятеля — заставленную, как мемориал, советскими книжками со знакомыми корешками.
8
В подобной географии поиски фиктивной родины неизбежны для того эмигранта, кто не способен довольствоваться частным определением суда истории — кто не способен выделить свою вину в ходе процесса как свое личное дело, как частное, приватное прошлое, прошлое своей семьи, кружка своих друзей. Такой эмигрант претендует на прошлое всей страны, вместе взятой, как на свое собственное. В случае белоэмигрантов речь шла о буквальной географии крупнопоместного прошлого, разграбленного большевиками; в грохоте прибоя «третьей волны» разговор идет о некой, вне советских государственных границ, потаенной России, существующей «подспудно», под советским режимом. Выдумано было даже слово: не «анти-советский», а именно «под-советский» роман, человек, феномен — жертва исторических обстоятельств и всемирной конспирации. Вот уже четвертый десяток лет главный раскол и главный разговор эмиграции завязан в пресловутой дилемме: советское настоящее России — результат порабощения невинного русского народа марсианским диалектическим треножником Маркса-Ленина-Сталина в ходе большевистского нашествия или же это логическое завершение всей дореволюционной истории российского рабства и тирании? В то время как «под-советская» интеллигенция продолжает ломать голову над дилеммой Востока и Запада, создавая фиктивную версию советского происхождения, эмигрантская «вне-советская» интеллигенция пытается выцарапать из советских лап свой фиктивный вариант Родины.
Для эмигранта-призрака, не нашедшего себе места «на том свете», за железным занавесом, такая фиктивная Родина насущно необходима, потому что без нее «некуда возвращаться», а призрак всегда мыслит «возвращением домой». Этот дом, Родина, Россия не должны иметь ничего общего с советской властью, с советским образом жизни, с советским языком: потому что именно эту «советскую Россию» эмигрант и проклял, отрекся от нее и от нее бежал. Россия, в которую он намеревается вернуться, лишена поэтому настоящего (автоматически советского), и, следовательно, Россия эта — утопическая, Россия будущего. Но образ этой России, ее язык и население, не имея ничего общего с советской историей, ищутся поэтому в дореволюционном прошлом; то есть это своеобразная утопия будущего в прошедшем — форма глагольного времени, существующая, надо сказать, только в английском языке.
Эмиграция есть уэллсовская «машина времени». Советский путешественник без обратного билета, эмигрант выезжает из мира свершившейся революции в мир, где уместен, скорее, словарь дореволюционного прошлого — все эти чеховские закладные, ассигнации, страховки, проценты с капитала, уклонения от налогов и пошлин. С детства нам вдалбливалось, что пролетарская революция неизбежна, неминуема. Поскольку эмигрант попадает в дореволюционную эпоху, значит, остается лишь предрекать наступление Революции. Отсюда — страшный консерватизм эмиграции: в любом антиправительственном выступлении ей видятся попытки большевистского переворота; в любом требовании государственного контроля или благотворительности в правительственном порядке — мерещится советский социализм. Попав, как он считает, в российское прошлое, эмигрант видит во всем зловещие знаки и символы уже однажды свершившегося российского будущего. При этом «машина времени» — отъезд — переносит советского эмигранта в российское прошлое (понятое по-эмигрантски) на территории чужого настоящего, другого языка и географии.
Не все, однако, переводимо с одного языка на другой. Настоящее для эмигранта, мыслящего плохо переводимыми аналогиями из прошлого, становится похожим на голландский сыр: дырки, сквозь которые эмигрант способен разглядеть будущее, как раз там, где эмигрантская память сумела проесть плотную массу чуждого настоящего. Парадоксально, однако, что, «узнав» настоящее путем «проедания», через аналогию с прошлым, эмигрант в это прошлое и проваливается, образовав дыру в настоящем, невосстановимую в будущем. Интерпретируя прошлое через настоящее, он уничтожает настоящее; но, отвергая прошлое, он лишается единственной опоры в настоящем, как бы выбивая из-под себя табуретку, с головой в петле. Таков результат переводческого, интерпретаторского отношения чужеземца к событиям на другом языке: в поисках смысловой «рифмы» с прошлым опытом он расходует настоящее на расшифровку запутанного прошлого или же растрачивает прошлое на растолковывание настоящего, повисая таким образом вне времени — в петле-угрозе сужающегося, затягивающегося будущего из внешних «механических» обстоятельств, которые он принимает за символ конца вообще и наступающей коммунистической революции в частности.