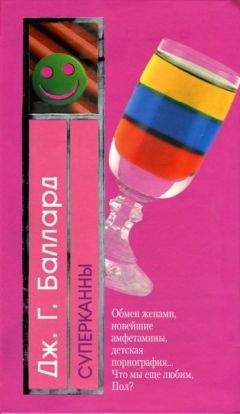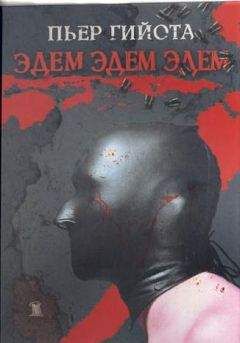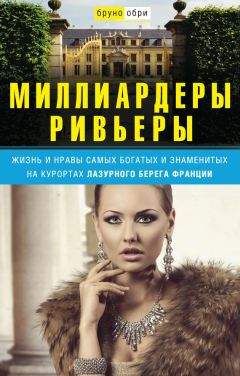Владимир Соколовский - Антология современной уральской прозы
Солнечные зайчики скакали по траве, лежала у моих ног порвавшаяся нитка рябиновых бус, пахло старой тучной травою и сухим, выгорающим на последнем солнце деревом; синеглазая бабка, размахивая ворохом гороха, что-то кричала мне из огорода.
«Неужели, — думал я, — неужели ещё каких-нибудь два месяца назад я мог всерьез предполагать, что существует какая-то другая жизнь? Не знаю, как для кого, а мне никакой больше не надо».
По дороге из кино мы заглянули в городской сад. Сели там на лавочку, и я сказал ей то, что уже давно собирался сказать:
— Я люблю тебя, Валя.
— Что ты, Гена, ей-богу... Так, сразу... — Она тихо засмеялась, отсела на конец скамейки и, посмотрев на небо, спросила:
— Видишь облако?
— Что мне до облака? Я тебя люблю, говорю! Впрочем, облако вижу.
— Хочешь, я по нему босиком пройду?
— Как... босиком? По облаку-то? Это почему ещё? — растерялся я.
— А я люблю по ним бегать утрами. Солнышко взойдёт, сверху их осветит — они прямо полянки золотые. И ноги после них как в росе.
— Люблю тебя, Валя, — снова сказал я. — А человеку не дано по облакам бегать. Это против физических законов тяготения.
— Мне-то что до них? — Валя закинула голову, обхватив её сплетёнными сзади руками. — Я вот летаю, например. Сладко-то как! Я тебя тоже люблю, Гена.
— Правда, что ли? Ах, Валя, любимая, и мне бы сейчас полететь куда-нибудь!
— Хочешь, научу? — она повернулась, прижалась ко мне.
— Хочешь?
— Ты специально меня разыгрываешь? — тихо спросил я. — Обманываешь, да?
Она поджала губки и ответила:
— Ну, вот что, Гена. Отношения теперь между нами серьёзные, может быть, и жизнь вместе жить, так знай: я никогда не вру. Я правда, Гена, летать умею.
И знаете, Олег Платонович, я не удивился. Даже обрадовался скорей. В самом деле, что же это такое: живу где-то на отшибе, и всё равно, куда ни посмотри — какая-нибудь выдающаяся особенность, но сам я к этому никоим образом непричастен. А тут, подумать только, любимая девушка, можно сказать, невеста, обладает столь удивительным качеством! И как же прекрасна должна быть жизнь с подобным чудесным существом!
— Полети! Ну, полети! — попросил я.
— Нет, не надо сейчас. Потом как-нибудь. — Она вдруг погрустнела, опустила голову.
— Что с тобой?
— Забоялась. Вдруг ты меня разлюбишь?
— Вот это чепуха! — страстно сказал я. — Ведь что такое полёт? Это сердце летит в небо, это танец его, воздушное лёгкое кружение. Душой исполненный полёт, как выразился великий поэт.
— Это у меня от бабушки, — промолвила Валя. — Она в молодости тоже любила летать. В крови, видно, у нас. И мама умела, пока меня не родила. Ты правда меня после этого не разлюбишь?
— Какой может быть разговор? — возмущение захлестнуло меня. — Да я после этого каждым прикосновением к тебе гордиться буду. А меня научишь?
— Посмотрим! — Она засмеялась, встала. — Пошли!
И мы поцеловались.
— Скажи, пожалуйста, — попросил я её, — почему у вас городок такой интересный? За каждой травкой можно какое-нибудь чудо встретить. Очевидное — невероятное, так сказать.
Она стала серьёзной, лицо её обрело значительность, и, как Дементьич, вскинув вверх палец, вдумчиво произнесла:
— Природа!
И теперь я, кажется, начал понимать мудрость Ваших слов о том, что не стоит, не следует искать какой-то магнитной жилы, специальных объяснений происходящему, необъяснимому. Оно всегда рядом, стоит вглядеться. Да только в том-то и дело, что не вглядываемся. Меня вот, можно сказать, случай с этим столкнул. А жил бы дома — даже и в голову не пришло бы предположить что-либо необычное, и только потому, что дома был определённый круг забот, в котором я вращался, и выглянуть из него было бы трудно чрезвычайно. Да и не только трудно, но и нелепо — как для себя, так и для других. Наверное, и у нас там есть что-нибудь подобное, но мы люди суетливые, а скрытое в глубине не терпит таких. Но твёрдо теперь знаю: оно вечно, как вечна природа и как вечно в человеке любопытство к познанию её. И никаких тут не надо искать магнитных жил, ибо это — везде.
В тот день я еле доплёлся до дому от избытка переполнявших меня чувств и прямо с порога объявил хозяину, что мы с Валей наконец объяснились. Он обрадовался, засуетился и сразу побежал куда-то собирать корчаги с чугунками под брагу и наливку. Так же он заявил мне, что завтра же надо отправляться к Максимихе Пахомовне свататься и договариваться, и не буду ли я против, если он прихватит с собой для компании водяного? Я ответил, что это мероприятие серьёзное, и очень, а водяного как человека я знаю мало, да и, сказать по совести, не очень-то ему доверяю: вдруг ему там ещё раз вздумается на мне покататься? В каком я виде тогда предстану перед невестой и будущими родственниками? Нет, здесь нужен человек солидный, внушающий безусловное доверие, и я рекомендовал Дементьичу кандидатуру Олимпиады Васильевны. В тот же вечер написал мамаше обстоятельное письмо о том, что встретил хорошую самостоятельную девушку и мы намерены соединить наши судьбы.
Пока я писал письмо, Дементьич затопил баню. Напрасно я отговаривал его, уверяя, что мыться на ночь глядя — безумие, потому что утром будешь чувствовать слабость. Он не понимал меня, удивлялся: «Как это, перед таким делом — да не помыться? Ой, Генко, Генко, неладно ты толкуешь. Ужо помою, помою...»
Надо сказать, что за время нашего жития дед баню не топил, а ходил вместе со мною в городскую. Мне было даже интересно, на что способна эта развалюха, кроме своих музыкальных упражнений. Это сомнение я высказал Дементьичу. Старик пососал ус и показал мне корявый большой палец: «Во как! В лучшем виде!» И опять убежал, зазвенел цепью у колодца.
Уже в сумерках мы с Дементьичем, вооружённые новыми вениками и мочалками, вступили в баню.
Горячий, знобящий пар её проникал даже в предбанник. Здесь же, в предбаннике, на полу лежало специально разложенное дедом свежее сено. В углу сложены были пчелиные соты, и мягкий, какой-то чайный запах воска и меда окутал голову. Этот же запах, только смешанный с пробирающим до костей зноем, исходил из недр и самой бани — она как бы млела в ожидании, когда зайдут в неё наконец люди и обретёт изначальный смысл само её существование. И ничтожным показалось мне в этот момент чудесное её баловство. Дементьич редко пользовался услугами своей бани, и дерево скучало по ласковой душе хозяина, как раньше скучало оно по убитому на войне его брату. Может быть, одиночество побуждало баню искать других путей общения с нами?
Старик счастливо загоготал и полез на полок. В густых клубах белело его изуродованное, ломанное медведем тело. Мы долго мылись, охали и вопили, когда тёрли друг друга жёсткими мочалками, задыхались и скатывались, потеряв силу после битья берёзовыми вениками, на лавку возле двери, там совали головы в кадку с холодной водой и благостно затихали. В один из таких светлых промежутков Дементьич сказал мне:
— Давай, давай, вникай потихоньку. Мне-то уж недолго. Всё тебе отпишу — владай тогда.
— Ну, что уж вы? — обиделся я. — Недолго, недолго... Вроде не болеете особенно. Чего недолго-то? И ничего мне не надо. Человек должен всё заработать своим трудом.
— Да разве в них, в доме да в бане, и в ином барахле, дело-то? Всё твое станет. Всё! Мне много успеть тебе показать надо. Да слово кой-какое сказать. Я тебя, голуба-душа, сердцем чую. Значит, не ошибся, не-ет!
— Спасибо вам, Егор Дементьич. Я вас тоже так люблю, верите ли...
Сладкий медовый берёзовый пар туго бился в стены замкнутого пространства, выходил между брёвнами наружу, и с улицы казалось, наверное, что баня дышала. Я прижался спиной к старому закопчённому дереву, раскинул руки. Кровь била в виски густо и устало. Огонь в каменке тоже густел, опадал.
— Отойди от стенки-то, — послышался голос Дементьича. — Весь в саже испачкался, дай-ко смою.
— Голова чего-то тяжёлая, — сказал я, опускаясь на лавку.
— А ступай в предбанник. Я тебе там и знакомство устрою, чтобы не скучно было.
Он отворил дверь, я вышел в предбанник. Старик просунулся вслед:
— Эй, насекомый! Да я не тебе, Генко. Есть тут... Яшка, эй!
Дверь захлопнулась, и тотчас я увидал летящего с потолка на тонкой паутине большого мохнатого паучка. Он остановился на уровне моих глаз и замер.
— Это ты, что ли, Яшка-то? — моя ладонь вознеслась к нему, и он медленно опустился на неё. Смело взбежал на кончик пальца и уселся, поворачиваясь из стороны в сторону.
— Ma-аленький ты... — другой рукою я хотел погладить паука, но он сразу съёжился и убежал с ладони вниз, к локтю.
— Не бойся ты, дурачок. — Голос мой обрёл вдруг стариковы интонации, и я почувствовал, как в пятке у меня легонько закололо. Я поднес Яшку к тускло горевшей в предбаннике лампочке и увидал, что одна из ножек на конце своём побелела и усохла. И стала мне понятна и боль в пятке, и смутные разговоры Дементьича насчет наследства, которое он собирается мне «отказать».